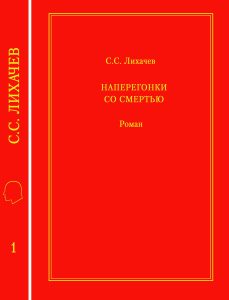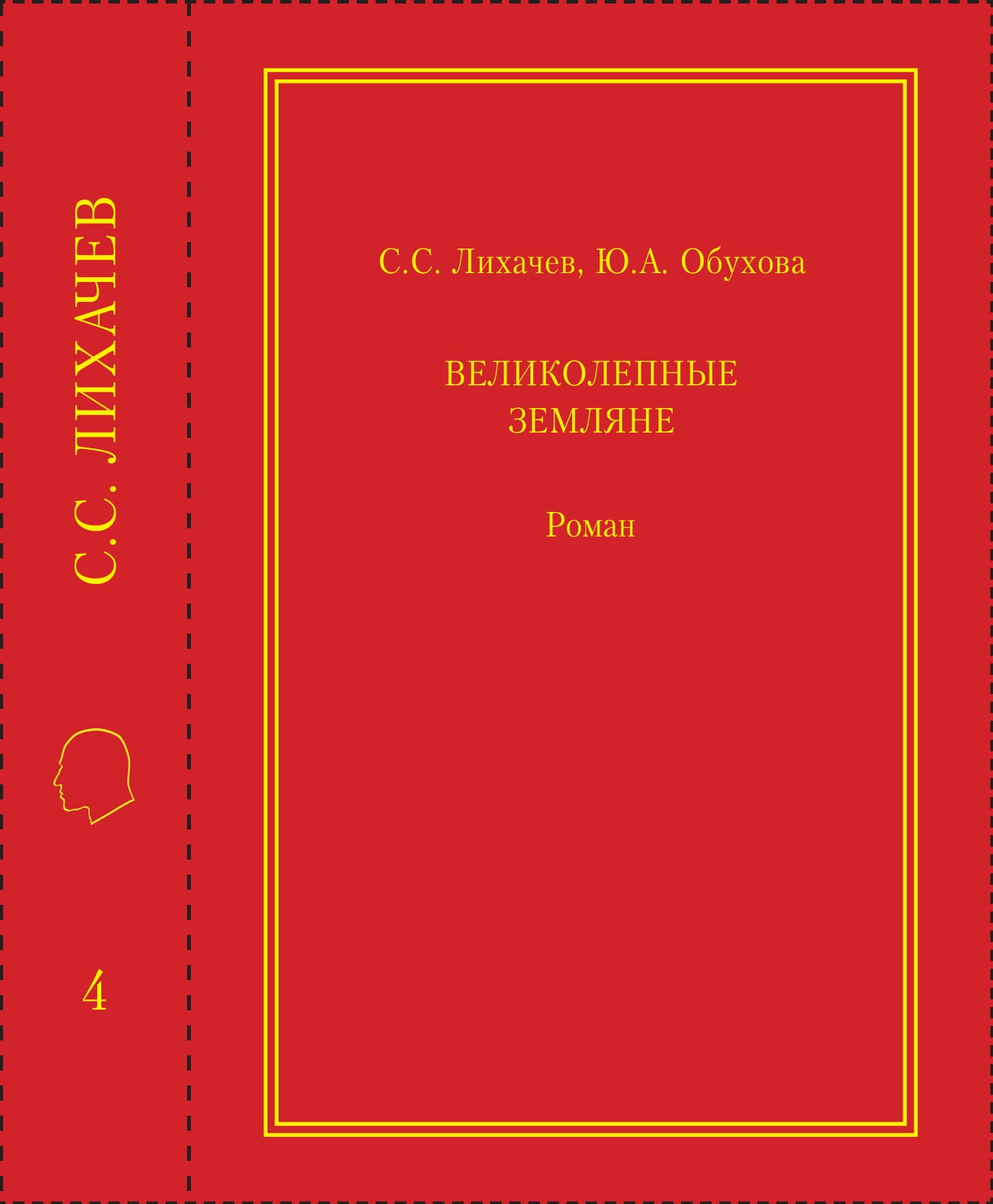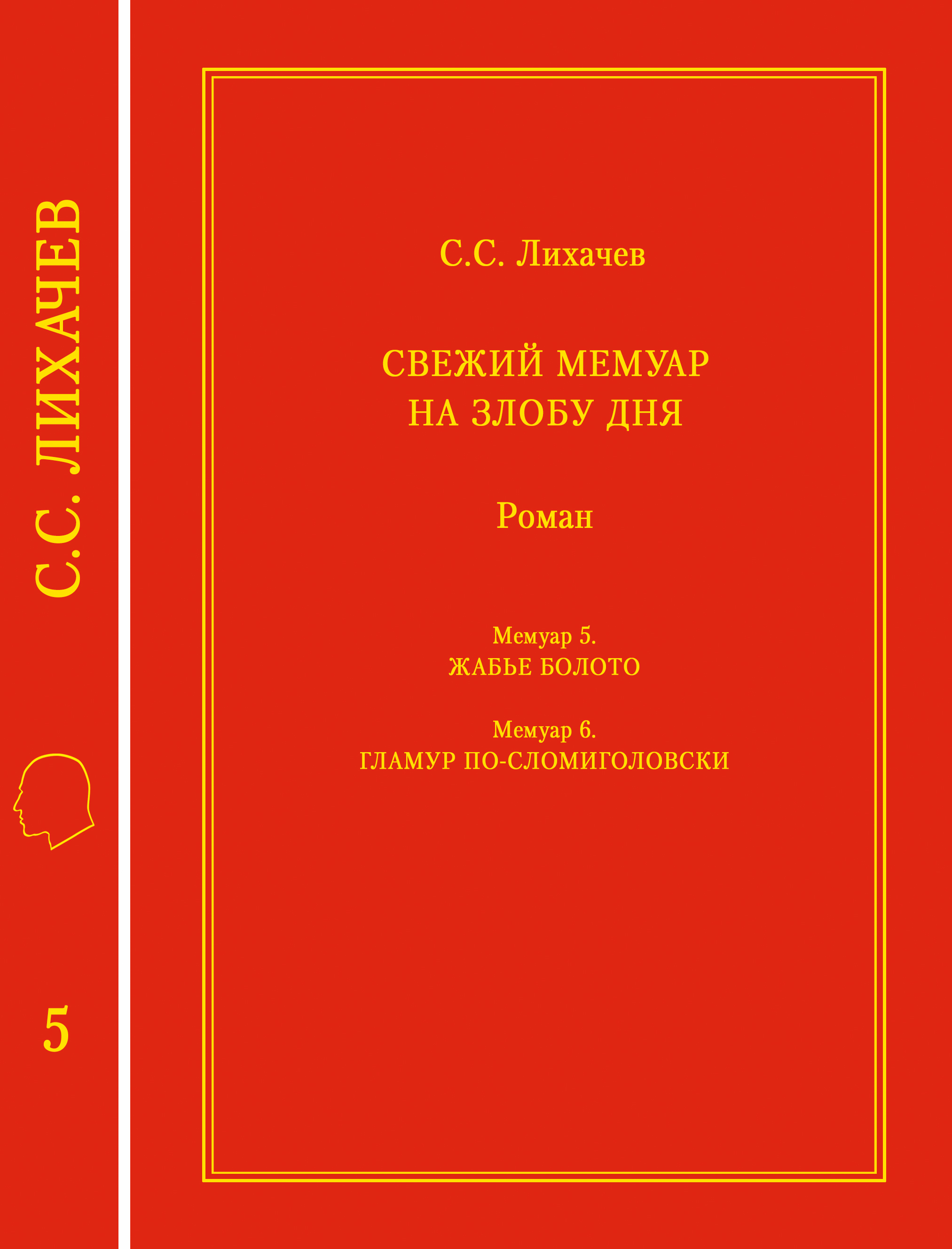Роман «Наперегонки со смертью»
Новелла о Русском Линнее
― Теперь, Марья Сергеевна, о деле. Но сначала вставная новелла.
― В наш взрослый роман?
― Нет, не перебивайте. Жил-был мальчик. Жил и был он с папой-мамой, двумя братиками, одним чуть постарше, другим чуть помладше, с дедушкой и бабушкой. Дружной семьёй жили. И вот как-то так получилось, не знаю, как, ― годкам к девяти-десяти мальчик этот перечитал всю почти русскую классику, и впечатлительный его характер был потрясён, не выдержал Достоевского и других наших страшных писателей. Тут возьми и случись: ударил он как-то в сердцах кулачком в живот немощную свою бабушку, а та возьми, да и помри через несколько дней. Померла она от своих, конечно, хворей, но мальчик жалел-жалел, плакал-плакал, да ― по несмышлению своему ― записал бабушкину смерть на свой счёт. Принялся он после того читать медицинские книги, а пуще того ― судебно-медицинские. Читал, надо думать, не много в них понимая, но завораживаясь звучанием терминов и сюжетами, и очень скоро привязался душою к таинству жизни и смерти. У мальчика возник невроз. Он стал внимателен к дедушке и часто задавал ему, что называется, «странные» вопросы. Однако продолжалось это недолго: умер дедушка. Понял сразу начитанный мальчик: в их семье повторился гоголевский сюжет «Старосветских помещиков», а посему и дедушкину смерть отнёс на свой счёт. Десятилетний мальчик с фотографий стал глядеть испытующе и скорбно. Вскоре как-то летним вечером с улицы не вернулся его братишка ― тот, что на год-полтора был постарше. Наутро какой-то дружок признался: они с этим братишкой играли в котловане, вырытом под фундамент нового дома, прокопали в отвесной песчаной стене котлована нору, братишка в неё забрался, а стена-то и обвалилась. Дружок убежал и, забоявшись взбучки от родителей, никому не сказал. Когда тело мальчика наутро принесли в дом, наш герой спросил, а почему это волосы у братика стали какие-то белые. И один дядя-доброхот разъяснил ему, что братишка его, наверное, всю ночь пытался вылезти из мокрого песка и жил часов десять, не меньше, потому что тёплый ещё, вот оттого-то и поседел; не белые, а седые волосы у него, пигмент такой в волосах пропал ― от ужаса перед смертью. И добавил этот дядя: зачем это его братишка вообще пошёл играть в котлован, во дворе играть негде, что ли? Тут наш мальчик и припомнил, как вчера вечером пожадничал: не уступил братишке велосипед покататься, тот и подался со двора. Тогда уже мать нашего героя принялась болеть, слегла, и детьми стал заниматься отец. Вот однажды собрались они в кино, опаздывали на сеанс, папа второпях побрился и тут заметил в зеркале, что у него из ноздри противная такая волосинка торчит: взял он ножницы, хотел отрезать, а наш пацан дёргает его за локоть руки, в которой ножницы, торопит: папа, ну чего ты! Ну, папа тогда пальцами другой руки лихо так волосок досадный выдернул, и побежали в кино. Через три дня папа умер от заражения крови. Мальчик кричал на руках у матери: лучше я умру! Но мама рассудила иначе: умерла вскорости сама. На суде, когда решалось опекунство…
― Можно я заплачу, на минутку, ― искательно воскликнула Маша. ― Мамочка всегда говорит: всплакнёшь ― и легче станет.
― Нельзя! Улыбнитесь через силу, скальте зубы ― пройдёт! Опекунскому совету мальчик сказал: не буду ждать, когда и мой младший братик умрёт, не смогу, лучше сразу убью его своею рукой! Попечители и судья поверили двенадцатилетнему мальчику: братику его изменили фамилию, имя-отчество, и он тоже канул в своего рода небытие. Двоюродные родственники забоялись взять к себе мальчика. И тогда отдали его на воспитание одному бездетному детскому психологу. Тому, видимо, не хватало материалов для диссертации. По крайней мере, мальчик рос в семье папы-психолога, чувствуя к себе не родительский, а профессиональный интерес. От такого жития в душе мальчика образы умерших родных покрылись ореолами святости и мученичества, и мальчик стал мечтать всей своей дальнейшей жизнью искупить вину перед убиенными им, как он считал, родичами. Он поначалу решил было для себя: за каждого из них он лично должен спасти от смерти по миллиону людей, потом чуть подрос ― и уменьшил до тысячи, а годам к семнадцати ― до ста, но уж от этой цифры спасённых положил себе не отступаться. Папа-психолог приветствовал и даже, может быть, разжигал эту страсть и, надо отдать ему должное, весьма основательно готовил приёмыша к её претворению. Но ко дню окончания средней школы юноше уже нечему стало учиться у папы-психолога, и он покинул его навсегда. Молодой человек получил поддержку от Фонда Аршинова и поступил в два университета, а пока учился, жил отшельником и, по соображениям скорейшего достижения своей цели, запретил себе личную жизнь и даже оставался девственником.
― Как же тяжело ему было ― при его-то страстной натуре! А вот подруга моя, чьё платье, ― Маша тряхнула пакетом, ― она в новогоднюю ночь не сдержалась и пустила… в своё лоно, хотя не такая уж она и страстная. Сейчас и меня склоняет попробовать… Всё-всё! ― испуганно прошептала Маша, когда Ямщиков свирепо взглянул на неё.
― Чтобы спасать людей, нужно самому быть подле смерти, и молодой человек, получив дипломы, занялся покусителями на самоубийство. Женщины пачками покушались, но, кроме самых молоденьких, едва ли не все оставались почему-то живыми-живёхонькими, и при этом, как выяснялось впоследствии, многие из них позиционировали свои покушения со значительной для себя выгодой. Пришлось молодому человеку стать разгребателем грязного белья, причём исключительно дамского. Совсем по-иному было с мужчинами и подростками: они за помощью к нашему психотерапевту и психологу не обращались. Они так: вдруг решился ― и сразу выноси его ногами вперёд; наш молодой человек с помощью редко к ним успевал. Года через три назрел перелом. Одна министерская дама написала жалобу: мол, наш врачеватель человеческих душ с настойчивостью, далеко выходящей за рамки служебных обязанностей, допытывался от неё признания ― почему она не добрала так явно дозу, когда травилась, и чуть ли ни хотел склонить её к повторному отравлению, но уже вымеренной им самим дозою. Молодой человек подал на неё в суд. Он доказывал, что эта особа с помощью друзей-медиков умело организовала демонстративно-шантажное покушение на самоубийство, имея целью устранить своего начальника и занять его место, что и случилось в самом деле. Доказал. Справедливость, как говорится, восторжествовала: даму уволили. Но двадцатипятилетний наш герой вскоре был избит металлическими прутками и попал в реанимацию, в Пироговку, где я тогда работал, дорабатывал последние дни.
― А бандитов нашли?
― Не важно. Так вот, я был его лечащим врачом и, на счастье, смог поднять его от земли. Но когда он как-то в полубреду рассказал мне свою историю… я решил: либо подниму его на ноги совсем, либо… не знаю что. Уйду из медицины! Думал-я-думал, думал-я-думал, ну не осталось в жизни моего больного никакого авторитета, того ― как вы, Марья Сергеевна, говорите ― «за спиной»: ни человека, ни дела, ни веры, ну совсем никакусенького авторитета, к которому можно было бы, подняв, прислонить и хотя бы выиграть время, пережить те переломные дни. Тогда я собрался и сказал ему: давай побратаемся кровью! Я, Марья Сергеевна, сам фондовец, аршиновец, у меня, кроме фонда и нашей бригады, никого…
― Ой, простите, простите меня, Иван Николаевич! Вот сроду я так: ляпну, а потом…
― Да не извиняйтесь, вы правы: у меня за спиной действительно, в основном, одни впечатления. Просто боялся я так жёстко это для себя формулировать, боялся, потому что нельзя мне сейчас оборачиваться назад ― специфика работы, профессиональный долг не позволяют озираться назад, как всем людям. А вы пришли ― и обернули… Не перебивайте! Рассказал я ему про наш способ реанимации. В те дни, а было это четыре года тому назад, мы довели его как раз до стадии клинических испытаний и готовились все поувольняться и съехаться в частном Центре реанимации, аршиновский фонд построил. Сама идея преобразователя героя моего рассказа чрезвычайно заинтересовала. Он обещал подумать на предмет «что-то здесь, правда, не то». Буквально через неделю заявил: мы недооценили личностную компоненту в своём способе, и надо не просто бомбардировать мозг электрохимическими сигналами, преобразованными из зрительных, но и привязать последние к самым ярким событиям в истории жизни больного. Я сразу понял: он станет нашим соавтором. Тогда созвал бригаду, держали совет, и вот мы, тогда двадцать семь молодых ребят ― эх, вот было время! ― мы в серо-голубых новеньких халатах с эмблемой Центра вошли разом в его палату и предложили работать с нами. Мы так «вошли» ― я уж об этом позаботился! ― что он не согласиться не мог. Чураюсь любых церемоний, но я сам торжественно вручил ему халат под номером двадцать восемь.
― А кровью?
― Кровью ― нет, от братания со мною кровью он до поры до времени отказался: посчитал это поблажкой для себя. Мы стали духовными братьями. В два года мы с ним создали технологию… как попроще… способ обнаружения и возбуждения ключевых объектов памяти. И вдруг он сделал доклад «О типологии людей славянской расы для целей реаниматологии». Мы были потрясены открывающимися перспективами. В тот самый день мы прозвали его Русским Линнеем и постановили: ввести его разработки в наш преобразователь. Мой брат, стало быть, шагнул к больному. И тут я, Марья Сергеевна, никак, ну никак не ожидал, что этот шаг настолько потрясёт его. Я не учёл: он ― врач-то больше языком, а не глазами и руками, как почти все мы, кто работает у стола. Вот увидел он брито трепанированный череп и от покойного тела всякие отрезы, увидел тот оскал, к какому и я-то за десять лет практики привыкнуть никак не могу, увидел, как умершему больному, по заведённому в бригаде ритуалу, закрывают глаза, если были приоткрыты, залепляют воском нос, уши и склеивают губы, вот увидел он всю эту атмосферу нашей работы и сказал, ― не сразу, конечно, потом, когда пришёл в себя, месяца через два, ― сказал примерно так: «Человек в состоянии комы ― это кандидат в человеки, как утробный плод, это потенциальный человек на совести и умении не только врачей-медиков, но и тех людей, кто мог бы поделиться с ним частью своей жизни, своих жизненных сил…» Стоп… ― начал уже от себя добавлять. Но это всё к делу. А дело в том, что не умеет прекрасный наш человек делиться своими жизненными силами с ближним своим, не обучен делиться своей жизнью. Потому и приходится нам, именно команде Линнея, буквально отбирать у ближних людей кусочки их жизней, чтобы залатать ими прореху в жизни больного. Да нет: неудачное сравнение привёл, но не важно. Так вот, Марья Сергеевна, для чего, вы думаете, рассказал я вам о духовном своём брате?
― Чтобы возбудить во мне уважение и доверие к нему!
― Полное, Марья Сергеевна, абсолютное доверие, как к родной мамочке. Вам предстоит стать поводырём и секретарём Линнея в смысле информации о семье Саблиных и об их окружении. Успех дела могут решить какие-то часы, церемониться будет некогда ― это помните всегда. Ваше участие сэкономит нам время ― немного, но вам может стоить нескольких лет жизни, будьте готовы к этому. Как работает Линней ― это неизбежно, даже с моим предуведомлением, ― может показаться вам неэтичным и даже безнравственным, а я не смогу оберечь вас.
Новелла о Крысе
― Ваня! Голубчик! Господи!
Из лифта на цокольном этаже вышла дородная женщина лет семидесяти с добродушно-постным заплаканным лицом, в пуховом платке и незастёгнутом старомодном пальто, распростёрла широко руки, обняла за плечи подошедшего Ямщикова.
― Да что ж вы так, Галина Васильевна: как ни заскочишь домой к вам ― всегда слёзы.
― Теперь уж это не мой дом… Теснит она нас во всём. Моложе была, думала: один Бог может меня сокрушить, а из людей ― никто. А теперь немощна я победить её зло. Ненавидит меня, потому что я свидетельствую против её зла. За столько лет не приобщилась к семье. Сальница: не могу больше пятна за ней выводить ― одолела. Омерзительная, как грязная мочалка. Сколько мы вынесли от неё злоречия! А голос потеряет, так шипит змеёй подколодной. Чувствую: недоброе может случиться, ой недоброе. Помоги, Ваня, Христом Богом молю: спаси Колю от потаскушки этой! Твой он выкормыш, ты его в люди вывел, тебе и спасать. Ученик не больше своего учителя. Увы мне! Если Коленька позволил, чтобы я ушла…
Она заплакала.
― А куда же вы без вещей и на ночь глядя? ― спросила вдруг Маша, выступая из-за спины Ямщикова.
― Куда? Прости, красивая, как тебя кличут-то?
― Марья. Вечер добрый, бабушка.
― Марья! Машенька! А голосок-то какой ангельский, простосердечный, без всякой подначки. Добрый вечер, доченька, добрый, милая. И где вот, Ваня, золотко, где такие Машеньки беленькие десять лет назад были, когда я своего этой… чернавке шустроногой отдать согласилась?
― Галина Васильевна, ― Ямщиков вынул телефон, ― может, такси вызвать?
― Не-е-е! Я к подруге ― ночевать. Подруга есть: старая, закадычная ― сибирячка. Недавно поближе ко мне переселилась. Она ― если что ― звала. Да не обо мне забота. За Коленьку обидно: растила-растила… Ой, каша в голове какая-то… Сегодня пришёл Коленька, в седьмом часу, лица нет ― так устал. Расстроенный: ещё одну больную, бедненький, говорит, потеряли. Давно таких безнадёжных не было, потому и отдых всем дали. Взяла я у него имя больной, какая преставилась. Славянским покойникам я в церкви свечки ставлю и читать заказываю. Покормила: неохотно ел, куском давился… Поиграл он с Катенькой чуть-чуть и лёг. А девка-чернавка его с утра ещё ушла куда-то. Моську красную свою выбрила ― усы у неё, напудрилась и ушла, костюм белый напялила. Только сыночка уснул ― звонят в дверь. Открываю ― ба! ― милиция, полиция тойсь. Верите, отродясь на пороге своём полицию в форме не видела. А тут стоят, двое, и Аду держат с обеих сторон. Она растрёпанная вся, шея в синяках, и под глазом тоже, парик свой рыжий в руках комкает, кричит, вырывается, слюнями брызжет: ну, право, Ваня, Машенька, Бог меня простит, право собака бешеная! Была у неё одно время собачонка, сучка. Маленькая такая, злющая, по квартире вечно носится, на всех кидается ― своих, чужих, ей всё равно. Лает-заходится, а шерсть всегда клочками, сколько ни чеши ― как наяву вижу. А нечистоплотная, жадная! Всё норовила кости или кусок под подушку на постели запрятать. Окормилась потом на улице чем-то, издохла. Ну вылитая хозяйка сучка эта, вылитая! И дышит, как собака, часто-часто, и кушает много ― и всё больше мясное и сладкое, куда только лезет? Ну да стою я в прихожей, обмерла, а власти и спрашивают: здесь эта гражданочка проживает? Здесь, говорю. А муж её дома? Спит, говорю. А они переглянулись так, с ухмылочкой, а помоложе который и говорит: пока, мол, муж почивать изволит, его благоверная в суде пыталась своими силами освободить из-под стражи подсудимого ― одного молодого человека, видать, любовника своего, его осудили нынче на восемь лет за изнасилование несовершеннолетней. Это она-то, Ваня, шибздик этакий, своими силами пыталась из-под стражи освободить! И смех, и грех. И дальше говорит: судья счёл её действия… ― ой, как уж он выразился, дай Бог памяти ― «проявлением болезненных эмоций», задерживать не стал, а распорядился отвезти домой. Позор! И ещё они сказали: синяки на Аде ― не их работа, а это родители той девчонки, малолетки пострадавшей, да кто-то из публики потрепать её успели, в зале заседания прямо, под шумок. Потом завели её в прихожую и не отпускают, Колю моего требуют. Она визжит, как отравленная крыса, ругается: «Буди скорей сынка своего, чего стоишь!» А он, бедненький, медиаторы свои принял, успокаивающие, таблетки две-три проглотил. Разбудила, куда деться. Вышел он, они рассказали всё, расписался на каком-то бланке, сам ни живой ни мёртвый. Только дверь закрылась, как бросится она на Коленьку: «Ты сам, ― кричит, ― во всём виноват!» И царапаться, и биться! И на меня: «Подсунули мне дистрофика! Вот и хлебайте!» Да как же дистрофика ― слыхано ли? Ваня, голубчик, ты-то Коленьку знаешь. И в детстве он совсем не болел, кислотой обжёгся только, так это ничего. В лесничестве на всём свежем вырос. Спокойный он просто, нормальный мужчина, сибиряк, рассудительный в отца, в простой семье рос. А ей, богохулке-скабрёзнице, ей бешеный кобель нужен, а если ты не кобель бешеный, то не мужчина! И у самой не имя ― собачья кличка. В общем, не выдержала я этого крику, да и глаз мой не мог доле её переносить, заплакала и ушла в свою комнату. Но Коленьке сказала: не сгонишь сейчас ― сама уйду, выбирай. Ничьи ризы не белы, но нет больше моего терпения, всё вышло. Василька увела, ему скоро десять, всё понимает уже, а тут Катюша плакать принялась, верно, на смену погоды… Катеньку в комнате ношу, а они в прихожей ― выясняют. Вдруг слышу: потаскухой её назвал! А то нет? И двух лет не прошло, как поженились ― пошло-поехало: как Коли дома нет, приводит то одного, то другого, и всё больше молоденьких, и подвыпивших часто. Ни одного отродясь не привела такого вот, как ты, Ваня, видного из себя, солидного мужчину. Да солидный разве польстится на двухвостку такую-то? Веришь, Машунечка, чуть не десять лет живём бок о бок, а она всё в заботе, чтобы я, не приведи господь, красот её телесных не узрела. Ни разу, как мылась, спину потереть меня не позвала. Но я видала, и не раз, всю её разглядела, знаю: не однажды пьяной возвращалась домой, и мне её самой раздевать-таскать приходилось, а то запачкает. Привезут её, бывало, упадёт, а как ночь за полночь ― плохо ей становится: кровь изо всех дыр так и хлещет, так и хлещет, глаза безумные закатит, красная, пылает вся… Как она тогда по ночам-то мучается ― страшно, ну вот-вот, кажется, помрёт. Тогда-то и нагляделась её телес: жилистая она, бугристая, вся какая-то перекрученная, словно полено из кривого дуба. Кожа на щеках и на носу красная, и вот здесь ― на груди ― тоже пятна красные с фиолетовой сеточкой. А со спины глянуть ― фу! ― позвоночник выпер, неровный, дугой как-то, и лопатки торчат как топоры. Не-е-е… ― только пьяный на такую польстится. Иль мальчишка какой неразумный, свою мать позабывший. В доме, Ваня, ни одной её фотокарточки нет, даже детской. Свадебные ― и те порвала! Ну так, приведёт, бывало, кого: «Это коллега из моего института, ― говорит, ― нам со срочным проектом посидеть надо в тишине, на работе шумно», и просит меня с Васильком погулять уйти. Помню, в первое-то время понять не могла: как же ― посидеть-поработать, а где чертежи-то, бумаги. А пригляделась: то стаканы немытые, недопитые останутся, то рюмки, беспорядок, грязь, то пятна подозрительные, и пахнет как-то… А то в моей комнате шнырять принялась. И Коля начал спрашивать, где его вещи: то одна пропадёт, то другая. А адская жена всё на меня кивает: к матери, мол, обращайся ― она хозяйство ведёт. Я и смекнула наконец: водит она ухажёров и дарит Коленькины вещи своим приходимцам, задаривает наперёд. Ну не бесстыдство?! Мало ей, что Коленькины деньги, потом-кровью добытые, на свои попугайские тряпки и выпивку без всякого удержу проматывает, так ещё и крадёт, и обманывает, и меня норовит под ссору с родным сыном подвести. В общем, не стерпела я как-то ― начала разговор с ней, по душам хотела, как с ближним своим. А она ― нет! «Не лезьте в мою жизнь, ― говорит, ― не ваше дело!» Да разве ж это не моё дело, Ваня, Машенька, а? Мой сын, мои внуки. Разве не моё?!
― Ваше, конечно ваше! ― горячо вступила Маша. ― И я бы не потерпела. Терпение здесь равносильно предательству!
― Вот умница! Дай Бог тебе, дочка, счастья. И я так рассудила: за кого мне ещё душой болеть, кроме них? Родители в войну пропали, мужа в Сибири схоронила ― клещ его энцефалитный укусил, старший сын во флоте служит ― годами его не вижу, сестра за тридевять земель проживает, подруга вот одна есть ― и вся моя жизнь…
Ямщиков посмотрел на часы, извиняющеся улыбнулся, развёл руками, пообещал заехать как-нибудь. Распрощались.
― В первый раз слышу о столь нечистоплотной замужней женщине! ― воскликнула Маша, когда лифт тронулся. ― И классика русская таких примеров не даёт. Как ей не стыдно!
― Не торопитесь судить…
― Ещё чего! Вы допускаете, что Галина Васильевна неправду сказала?
― Не допускаю. Но правда одного всегда тенденциозна.
― Неужели вы могли бы оправдать супругу и мать за грязное беспутство? За что же тогда в жизни держаться, если грязь такую в семье допускать и прощать? Вы за что в жизни держитесь?
― Я держусь за… работу… за мечты свои, может быть…
Не знаю!
― Не знаете ― вы?!
― Приехали, выходим!
― Ой, боязно мне: она сейчас увидит, как я на неё смотрю, как говорю, и сразу всё поймёт. А не можете вы без её мужа обойтись: вас же, врачей, много в бригаде?
― Вся бригада ― врач, коллективный врач, способ работы такой. Без Колычёва ― никак. Он сегодня единственный биохимик, дублёр его ― за рубежом. Звоните!
Маша глубоко вдохнула, затем кивнула себе головой и нажала на кнопку звонка…
― Проходите, раздевайтесь. А я думал, мама вернулась.
Тщедушного вида мужчина ― белёсый, редковолосый, с небольшими руками ― кивнул Маше и, виновато сморщив невыразительное и измождённое лицо, засуетился вокруг неё, боясь столкнуться взглядом с Ямщиковым. У него был вид, будто он всё время собирается высморкаться. Видимые части кистей рук были испещрены старыми разноцветными пятнами от ожогов.
― Простите нас великодушно, ― извиняющимся тоном сказал он, ― мы здесь сегодня на повышенных тонах…
В прихожую быстрым мелким шагом вошла вёрткая, малорослая женщина с удлинённым востроносым и густо напудренным лицом. Её близко посаженные глаза вспыхивали, как неостывшие угольки.
― Не мама, а папа твой, ― визгливым голосом сказала она и поджала губы. Подёргивая головою, стала разглядывать Ямщикова и особенно пытливо ― Машу, следить за их движениями. ― Добрый вечер, гости дорогие! Запашок учуяли? Ладан. Как в церкви живём, праведниками. Порядочные мужья валюту на жён, на детей тратят, а мой ― на ладан аравийский: по научной, дескать, части положено. Так-то вот шибко учёного мужа иметь, ― обратилась она к Маше. ― Ты замужем?
― Мне рано ещё! ― с вызовом ответила Маша.
― Замуж никогда не рано: бывает только как раз или поздно. А послушайте-ка, Иван Николаевич, может, это вы на меня столь пагубное влияние оказали? Я эту, ― она кивнула на Машу, ― ягодку-малинку имею в виду. Она на меня почему-то смотрит, как прокурор в зале суда. Помнится, на банкете у посла, где мы с вами так лихо танцевали, при вас одна ягодка состояла, а теперь, вижу, совсем другая, помоложе, хотя куда моложе, вам-то. Нас за такие дела в собственном доме потаскухами обзывают.
― Ада! ― воскликнул укоризненно Колычёв.
― Что Ада, что! Возьму и расскажу сейчас папе твоему про наши ухабы на пути к семейному счастью! Всё, всё бельишко на свет белый вытащу и перетрясу! Глядишь, что-нибудь дельное присоветует.
Тут в прихожую из комнат выступила полуторагодовалая девочка, для сна одетая, в одной руке держа сухарик, в другой ― затупленный карандаш. Увидев чужих, остановилась, неподвижно уставилась на Ямщикова; тот принялся подмигивать ей и силился улыбнуться подобрее. Девочка скуксилась и потянулась к отцу.
― Пойду, укачаю. ― Колычёв поднял дочку на руки, бросил на Ямщикова исподлобья виноватый взгляд. ― Дайте мне полчаса.
Не спит, капризничает на ветреную погоду…
― Иди-иди, алхимик, ― с нескрываемой насмешкой просипела Ада. ― Всегда сбегаешь от разговора начистоту. Пусть бежит. А вас, гости дорогие, прошу в наш актовый зал ― на кухню. И разрешите, Иван Николаевич, первым делом полюбопытствовать: зачем вы с собою в клинику барышню везёте, да ещё и в свитере со своего широкого плеча, да ещё и в своих джинсах… Постойте-постойте… А может, вы ей платье изорвали?! Ха-ха-ха! Ой, держите меня за грудки! Ха-ха-ха! Вижу ― угадала! Ой, да вот же оно! ― Ада выдернула платье из пакета в руках Маши, рывком расправила на себе. ― Живут же люди. Ну почему на мне мужчины платья не рвут!
― Отдайте!
Маша готова была ринуться на обидчицу.
― На-на, возьми своё орудие труда. И советую: храни его, как экспонат музея личной дамской славы храни ― на старости лет не налюбуешься, да и гостям будет что показать. Так как же с барышней, а, Иван Николаевич? Очень уж, простите, мне ваша отшельническая жизнь любопытна. Вы женщинам нравитесь, здесь единодушие полное, а вот влюбляются ли в вас насмерть?
― Мария ― сестра нового больного, ― улыбнулся Ямщиков через силу. Они с Машей расселись в столовой по застольным табуретам. ― Сопровождает меня на обычную первую ориентировку.
― Так-так, на обычную, на первую, значит, только что познакомились… ― Ада облокотилась спиной на барную стойку и стояла, скрестив руки на груди и подав голову вперёд. ― Ха! Ничего себе ― ориентировка: платье в лоскуты! Я такие ориентировки ― на обнажённом теле в поисках запретного плода ― за сто вёрст чую. В судах, однако, это деяние квалифицируется как совращение несовершеннолетней. А тебя, красота, вижу, девство-то уже вовсю распирает!
― Мне уже исполнилось восемнадцать. И вовсе не Иван Николаевич платье разрезал! ― воскликнула Маша, но осеклась, и прижала пакет к животу. ― Правда, он… так нужно было ему… для вдохновения…
― Потрясающе! ― Ада радостно оскалилась. ― Погоди-погоди. ― Она сощурилась, принагнула голову вперёд, отчего лицо её на мгновение приобрело заискивающе-идиотское выражение. ― Ты, выходит, с Нинкой сцепилась? Ха! Сцена вышла, представляю себе, боевая: две нехилые кобылки ржут, брыкаются и кусают друг друга. Хотя нет, Нинка покрепче и побрыкастее будет, а у тебя и голос какой-то детский… Или ты прикидываешься?
― Это вы прикидываетесь! А сами честь потеряли, тёщу довели, мужу работать мешаете, жить не даёте! ― на одном дыхании выпалила Маша.
― Что?! ― Ада оттолкнулась от стойки, подскочила к Маше. ―
Я ― честь?! Я ― жить не даю?!
― Говорила вам! ― в гневе обернулась девушка к Ямщикову.
― Вон ты какая цаца строгая! Прямо общественный прокурор ― ещё один на мою голову! Ладно, честь я потеряла, ладно. И тебе того желаю ― во избежание застойных явлений и развития комплексов. На сайтах знакомств все целки на фотках выглядят почему-то крайне уныло. ― Ада заметалась по кухне, выхватила сигаретку, закурила, пыхнула в сторону Маши дымком. ― А вот с тёщей ― прости! Тёща ― ха! ― нашла, кому плакаться. Она сама себя довела! Как мужа схоронила и к нам из Сибири переехала жить, так и начала помаленьку с ума сходить: по церквям мотаться да деньги на свечки-поминания переводить. Живёт у нас, а ребёнка оставить не с кем. Меня возненавидела, будто я, а не клещ энцефалитный, её мужа в тайге укусила. Так это, значит, она вам только что наябедничала… Не горюй, честная девушка, не горюй больно-то: завтра поутру вернётся твоя бабушка, не впервой уходить, знает, что мне на работу ехать. Юродствует свекровушка, а провокация ― обязательный атрибут юродства. Это только для бога юродивый ― праведник, но не для людей в миру. Ну, Иван Николаевич, привели мне честную, удружили. Ненавижу таких! ― Она остановилась напротив Маши. ― Сейчас погляди на неё ― чуть ли не Мадонна с алтаря: глазки магнитные, телеса, волосы, кожа ― всё при ней. А как замуж выйдет да парочку чад произведёт ― заматереет сразу, опустится, со старухами во дворе на лавочке часами болтать начнёт, а сама, сама-то, копни её поглубже, сама при этом будет втихую мечтать, что и на её долю когда-нибудь перепадёт этакое приключение: необыкновенно прекрасное, вот только бытовой горизонт немного расчистится или кто-то там уедет-приедет, и непременно что-нибудь приключится ― по части принца на белом коне. И мораль наша ханжеская ― вот что меня бесит! ― мораль опекает такую «честную». А она просто-напросто ленится или трусит побегать да телесами своими потрясти, чтобы завоевать себе мужчину, какого до смерти хочет.
― Мораль здесь семью защищает!
― Вот-вот, говорю же ― моралистка! Защищаться моралью должна такая семья, которая того стоит! А моя ― стоит? Колычёва я не люблю, и давно уже. Он меня, уверена, тоже. Хозяйство? На тёще. Тогда, может, дети? Скучно мне только ими заниматься, ну до смерти скучно! А первый ― так совсем неинтересный ребёнок, как личность мне не интересный: вялый какой-то, без искорки, и глаза чересчур светлые, какие-то пустые, в отца весь. К тому же родила я его, можно сказать, по просьбе свекрови: я его не хотела, забеременела ещё до свадьбы, случайно, а сама училась в архитектурном, и Колычёв ещё только доучивался, жить негде, куда было рожать?
― А второго зачем родили, если детей не любите?! ― продолжала Маша гневиться.
― Катьку? А вот, заботливая ты моя, для укрепления семьи и родила. Дурой была. Но детей своих люблю, как могу, люблю ― не по книжке, в записные мадонны не стремлюсь, о себе не хочу забывать.
― В гетеры вы стремитесь! ― выпалила Маша, уже привставая навстречу Аде. ― Плохая вы!
― Ха! Да мне бы с тобою шкурами сменяться ― да хоть сейчас в гетеры подалась! Ну что ты опять на меня так смотришь? Что смотришь? Плохая, говоришь? Не плохая — какая есть! Да поймите вы, наконец: для некоторых женщин тот же гетеризм ― самый естественный образ жизни! Естественный, а потому мораль должна его защищать. Вы понять этого не хотите, воротите носы от тысячелетней проблемы. Коль уж дали человеку родиться, позвольте ему и жить по своему естеству. По естеству ― мораль, а не одна мораль для всех. Мадонна ― это прекрасный классический образ, и большинством людей он воспринимается подражательно. И я её уважаю, не люблю, но уважаю, точнее, допускаю, пусть живёт: мадонне ― мадонново. Но и гетера ― тоже классика. Вы не любите её, сколько угодно не любите, но уважьте, допустите как образ жизни. Вы, чудо-меди-ки! ― Ада кинулась уже к Ямщикову. ― Объясните этим «честным»: что это такое для некоторых, какая это сила ― тяга одновременная к искусствам и противоположному полу! Пусть, наконец, эти «честные» от нас отвяжутся!
― И вы ни разу не раскаялись, даже не покраснели за своё поведение… перед мужем? ― уже с некоторым смущением и потише спросила Маша, опускаясь на свой табурет.
― Дался тебе этот муж. Где ты видишь здесь мужа? Ау-у-у, муж! Что это за муж, если он не желает или не способен заботиться о моём здоровье? Он ночует в своей клинике неделями, а приедет домой ― нос от жены воротит. А мне что, прикажете по вечерам одной с ума сходить, уж простите за откровенность? Я не оправдываюсь, мне оправдываться не в чем, я вас к гинекологу своему отсылаю, к устаревшей гиппократовской медицине, как вы её зовёте: воздержание для меня означает конец, заболею, свихнусь ― и конец. Пробовала воздерживаться, знаю ― это верная дорожка, в лучшем случае, в больничную палату, и надолго. А я ещё на воле побегать хочу. Кстати, когда с гинекологией на обследовании лежала, лечащий врач, поддав мензурку неразбавленного спиртачка, так и сказал: до старости дожить не надейся. Почему? А метаболизм, говорит, очень активный: сгораешь быстро. Мама с папой, когда меня замешивали, видать, дрожжей переложили: и дыхание, и сердцебиение чаще обычного, и температура в норме ― в норме! ― тридцать семь, и амплитуды циклов каких-то прыгают, как бешеные, так и сказал: как бешеные! Вот и ответь мне, киска, теперь, ― Ада склонилась над Машей, ― с какой стати мне краснеть перед мужем, если ему на моё физическое здоровье наплевать?
― Он и своё не бережёт, ― совсем уже тихо возразила Маша. ― По нему видно. Такой весь жалкий…
― А мужчина и должен работать на убой. И обязан в жене своей всё женское поддерживать. У нас не Европа, у нас Евразия ― не каждый только за себя. Лелеять должен, ублажать, платья покупать, и рвать их иной раз ― это ещё как воодушевляет! А Колычёв ― что ты думаешь? ― всё, что зарабатывает, на ароматические смолы тратит заморские, на кору, морские водоросли, рыбью чешую. Тогда, ответьте, кто же обо мне ― да ещё в окружении таких вот «честных» ― обо мне как о женщине позаботится, кто должен заботиться, если законному мужу недосуг, а в стране царит остаточный патриархат? Может, праведное наше общество меня опекает? Отнюдь. Обществу в этом плане на меня троекратно наплевать: публичные дома оно запретило законом, а любовников ― моралью, партийными уставами, такими вот безгрешными мадоннами, да тёщами-свекровями, да всякими больными и дефективными, да попами всяких мастей, ну всем и всеми! Я даже удивляюсь на наше гражданское общество: ну ничего оно не способно мне предложить, вот лично мне ― ничего! И думать даже не хочет! Роддом да венерина больница ― всё! А мне что делать прикажете? Вместо полнокровной жизни шмыгать по больничным коридорам: зажать руками одно место и, эдак стыдливо озираясь по сторонам, из процедурной в палату ― шмыг? Этого от меня требует среднестатистическая мораль?! Чего ради? Общество от этого расцветёт, государство окрепнет? Отвечай, тульский пряник! За что мне краснеть перед мужем?!
― За измену, ― неуверенно сказала Маша и, жалобно взглянув на Ямщикова, опустила глаза.
― Измена ― следствие, а не причина. «Изме-е-ена»! Конечно, верность полезна окружающим, всем окружающим полезна: они потому за неё так и хлопочут. Но ой как вредна для тех, кто её хранит. Верность, кроме прочего, съедает информированность человека и даже тупит его. Да-да, не улыбайтесь, Иван Николаевич, я замечала: самый верный ― почему-то всегда по совместительству и несколько простоватый. Да и что такое измена? Это одна из вероятностных плат за любовь, и куда как не самая дорогая плата. Полюбила ― готовься платить, куколка, по всем многочисленным статьям расхода готовься платить. Иван Николаевич, объясните это своей послушнице.
― Вряд ли это поддастся сейчас пониманию. ― Ямщиков внимательно поглядел на Машу. ― А всё-таки, Ада Кирилловна, хоть раз в жизни должно же было вам стыдно за свою измену ― неудобно, по меньшей мере.
― Стыдно за измену? Ни разу! Вы меня удивили даже, Иван Николаевич. Для чего я вам о себе рассказывала-то?
― А если вне этой сцены? Я вас понимаю вполне, но и вы меня…
― А-а-а, мужская солидарность взыграла? Рога носить ― кому ж приятно! Ладно, было мне один раз неудобно… Если бы вы вдвоём так не припёрли, не вспомнила бы вовек. Рассказать? Ха! Поучительнейшая, между прочим, историйка для пушистой киски… ― Ада подхватила прядь волос Маши, приподняла к свету, поджала губы, и прежде, чем Маша успела отмахнуться, увидела на её шее синяки. ― Вот тебе на! Я её за котёнка держу, а она уже кошка драная! А то, может, и в компаньонки ко мне подашься? В паре ― лучше, и кавалеров полно!
― Нужды нет!
― Тогда слушай ― про измену… Я тогда в десятом классе училась и с первым любовником своим месяца три уже встречалась. Любила его… Первая взрослая любовь! Ночами почти не спала: стихи всё писала. Хотела что-то необыкновенно красивое создать. Ему первому и начала тогда стихи посвящать, а до него ― про закаты-цветочки сюсюкала. В школе, помню, за партой усидеть не могла ― всё подпрыгивала: дождаться никак не могла конца уроков, чтобы скорее домой бежать, к свиданию готовиться. Ха! Сейчас вот подумала: а ведь он совсем не по мне был, совсем ― и характером, и складом души, приземлённый такой, неласковый. Не пел, не плясал, не играл со мной. Странно даже, что я втюрилась в такую дубину. Видно, по Пушкину вышло: «Пришла пора, она влюбилась» ― без выбора. Здоровый, сильный был ― и всё. Помню, лежали мы с ним как-то… За окном луна полная, ясная, как по заказу. Он на спине, я с боку его обняла, глажу грудь, ласкаю, рёбрышки перебираю. Грудь у него блестит в лунном свете. Уж как ликовала, что молодой красивый парень рядом наконец-то! И в самое ухо ему стихи шепчу, свои стихи, в первый раз читать решилась. Сама ― какой восторг! ― чуть не улетаю! Ясно помню: казалось, вся жизнь моя должна решиться, как только прочту! А он и не понял… Представляешь, рыбка? Что стихи посвящены ему ― не понял. Что я в любви признаюсь ― не понял. Дворняга! Имени, фамилии в строфах не указала ― он и не сообразил, о ком речь… Ладно! В летние каникулы уехал он, надолго. И как-то оказалась я в компании, на квартире, вечером. Очень весело было. В полутьме натанцевалась я тогда вволю, напрыгалась, платье даже на поясе… ― да, я в том, малиновом, почти как у тебя, была ― да, лопнуло на поясе и в бедре по шву разошлось… За танцами в бутылочку играли: перецеловались все крест-накрест, перещупались… Короче, развеселилась я в тот раз не в меру, разыгралась и ― так, сама не знаю, как ― в игре и отдалась одному. В кабинет заскочили, и ― минутное дело ― отдалась прямо на подоконнике. Ха! Слово-то какое неподходящее, старое ― совсем не так отдаются. То-то и обидно, что не отдалась, а… ― так… Ну надо же, и не скажешь: новые слова скабрёзные все…
― Может, «уступила»? ― в волнении прошептала Маша.
― Нет! «Уступила» ― вполне осознанный выбор предполагает, молчаливый сговор. А тогда ― какой у меня выбор был? Была ситуация настроения ― и всё. Теперь уж и не могу парня того вспомнить на лицо, да и не важно ― с кем, а вся суть-то: не собиралась ведь изменять, ни секунды в своей верности не сомневалась. Я и понять-то поняла, что вот это и назовётся изменой, только когда с вечеринки домой вернулась и фотокарточку того, первого своего, из стола вынула, по обычаю, перед сном. Да! Помню, как взглянула, как дошло до меня ― и в слёзы, истерика на остаток ночи… Да, то моё первое «левое» приключение достойно хорошей истерики… Потом на стенку лезла: как же, думала, ему объяснить, что моя измена не настоящая, ну не та, которую не прощают? И я тогда же обнаружила ещё, что нет ни души вокруг, никого, кто бы поддержал как-то, успокоил, присоветовал хоть что-нибудь. Отцу-матери такого не расскажешь. Ты бы рассказала?
― Не знаю, ― выдавила из себя Маша. ― Вообще я мамочке рассказываю всё, кажется…
― Ни за что не рассказала бы! Если б забеременела ― другое дело, а так ― ни за что! Одной бы переживать пришлось. Ну ладно. Потом узнаю: приехал. Жду ― не зовёт. Ну, понятно: рассказали. Что делать? Самой его ловить ― не то что боязно или стыдно, а унизительно как-то. Вот этот самый первый стыд девичий в зачёт мне на всю оставшуюся жизнь и пошёл! А в новых стыдах, как ты говоришь, нужды нет. И концовочка хороша ― мотай на ус, котик. Приглашают, наконец, меня в гости, подруга одна приглашает и, естественно, радостно так предупреждает: «он» тоже будет. Собралась, трясусь вся, являюсь, подхожу к нему. Отворачивается. Стою прямо перед ним, а он отворачивается! Но я всё же заговариваю, уж и просить прощения, кажется, начала, а он мне вдруг как заорёт в лицо: «Мотай отсюда, крыса!» Это при всей-то нашей честной компании! Гад! Я так и вцепилась в его телячью морду! Всю исполосовала! Ему, а не мне, уматывать пришлось, позорнику. Но бесчестие моё завершил вполне: такую кличку прилепил! Как хвост за мною по жизни тянется. Чуть что кому не по нраву скажу или сделаю ― и сразу: «Крыса!» Даже отрежу завтра полноса ― пластические хирурги давно склоняют, ― всё равно, уверена, для всех останусь крысой! И даже «крысой из ада». Как жить посоветуете? Я всё к тому же возвращаюсь. А кроме немодельного носика, кстати, есть у моих телес кое-что и похуже ― не при мужчине будь сказано. Я к таким женщинам отношусь: сегодня ― девица, завтра ― старуха. Мне осталось-то, может, с десяток лет полноценной жизни. Так чего ждать? Нечего мне ждать! Как я танцевать люблю, а когда и семнадцать-то лет было, никто сроду на танцах меня не приглашал ― только самые пьяные и дефективные подходили. Верчусь, верчусь, подставляюсь ― никто не пригласит! Банты ― во какие нацепляла, ― Ада широко развела и тряхнула руки над головою, ― платья ― не длиннее шорт, всегда без лифчика ― простите, Иван Николаевич, ― без лифчика приходила, чтобы партнёр соски ощутил, и не раз ― вообще без нижнего белья. И всё без толку: одни насмешки! Всегда сама кавалеров приглашала, хитростью или силком танцевать волокла. Поищешь так, у кого лицо подобрее, подойдёшь, пригласишь вроде бы шутя, наивной прикинешься, ― она сощурилась на Машу, ― а если и пойдёт, это ещё не всё, далеко не всё: мне кавалера разговорить надо, обязательно разговорить, расположить к себе, потому что с первого взгляда я никому не нравлюсь, трёпом беру. И вот стараешься, из кожи вон лезешь. Другие девчонки сразу глаза закатывают и кайфуют, а я ну вся в трудах: мне ещё понравиться надо, потому если в первую же минуту танца не сможешь завлекательной болтовнёй добиться внимания, то никакого удовольствия не получишь. И вот льстишь, заискиваешь, комплименты ему незаслуженные сыплешь, весёлой, на всё готовой прикидываешься ― и это в семнадцать лет так унижаться! О-о-о, танцы многому меня научили! К королям танцулек вообще не подходила: эти ещё на дальнем подходе одним презрением во взгляде убьют. Какой партнёр неискушённый или в самом деле очень добрый окажется, тот может и улыбнуться из вежливости и даже как-то на комплименты мои растерянно ответить. А окажись поопытней ― взгляд уведёт куда-то за спину, от бантов будто бы отстраняется, разговор не поддерживает, лицо нарочито скучающим делает, всем видом своим выказывает пренебрежение, за приглашенье хочет меня наказать. Научилась я кавалеров сортировать. Попробовала бы не научиться: шестнадцать лет, семнадцать, восемнадцать ― самый девичий цвет! ― и никто за мною по-настоящему не ухаживал, на углах с цветами не поджидал, не подрался за меня ни разу, не заступился, когда обижали. Никто и ни разу! Здесь чему и не рекомендуют научишься, если в отбросы не хочешь угодить. Но ты, ― Ада склонилась к самому лицу Маши, сощурилась, растянула губы в вульгарно-игривой улыбке, ― ты не думай, краса лубочная, даже не надейся, что кавалеры мои такие уж никудышные все, зависти твоей не стоят. По Колычёву не суди: он только муж. А кавалеры мои теперь как раз твоей зависти и стоят! Гляди! ― Она сдёрнула с барной стойки длинную гладко-лакированную сумочку и вытрясла на стол всё содержимое ― платки, косметику, кипу бумажек и фотокарточек ― и, лихорадочно расшвыряв бумаги, отобрала одну карточку и выставила её Маше в самое лицо. ― Гляди, гляди на него! Сегодня утром, перед судом, у матери его взяла. Ну как, хорош мой принц? Хотела бы такого заиметь?
― Испортите вы его только… ― тихо произнесла Маша, едва взглянув на карточку.
― Ага, завидно стало! Всего двадцать лет! Не испорчу, а научу. Любовью не портят. Завидный кавалер? А взялась бы ― мог стать и мужем, к тому шло. Теперь не знаю… Ну что за судьи! Это же очевидно: всё подстроено её родителями! Он по наивности своей попался, уж я-то знаю! Той тётке в мантии я всё объяснила, расписала всю подноготную аферы с этой нимфеткой! Ну, судьи у нас ничего понимать не желают! А ты что понимаешь, святоша доморощенная! ― Ада вновь кинулась к самому лицу Маши. ― Что, что ты в нём можешь понять?! ― Она затрясла перед глазами девушки фотокарточкой, смяв уголок. ― А плечи! А грудь! Кожа! Ты способна их почувствовать?! Восточный мужчина! Ласковый, стремительный, сильный! Видала б ты его, когда он на поле в футбол гоняет! Его видеть нужно совсем рядом, трогать его, ласкать! Тело сухое, жаркое, как вулкан, лаву извергнет. Таких мужчин больше нет на свете! Мышца каждая ― на ногах, на спине, на животе ― чуть он шевельнётся, двинется ― вздрагивает каждая, завлекает, так и хочется её поймать! Плечи широкие, развёрнуты, перегораживают взгляд. А грудь! грудь! ― кожа шёлковая, струится под рукою, гладить часами готова, да что часами ― всю жизнь свою! Античная лепнина живота! Торс, как у фигуры атлета из альбома. Как он поворачивает голову, смотрит ― бог! Ему ― декораций царских и на троне сидеть! Как увижу, и тянет, удержу нет, броситься к его ногам, обхватить стопы, прижать к груди, зарыдать, умереть! Ничего не жалко, ни о чём не пожалею! Как в старых плохих романах, скажете, да? Смешно, да? И пусть! Но если помирать, так с этим впечатлением от обладанья красотой! А то ведь споткнёшься и сгинешь в любой момент, и чёрт знает с чем на уме, со случайным чувством, с окаянной мыслью, да ещё с чужой. Нет, за таким мужчиной я хоть на край света побегу! Мы ещё подадим апелляцию, посмотрим ещё… А как он смотрит! Его взор! Вот именно взор! Кто в наше время, кто из мужчин может на женщину как следует посмотреть? Как они сейчас на нас смотрят? Равнодушно, пусто ― и это не в худшем случае, а чаще ― нехорошо смотрят, чванливо, пренебрежительно, а кто и откровенно по-хамски, с грязнотцой. Разве не так? Вдохновляющего взора нет. Который взял бы тебя за живое, наполнил бы тебя страстью и острым желанием взлететь ― такого взора нет! Даже простого кавалерского зова не отыщешь. А он ― он уже в детстве глядел проникновенно. Сейчас, сейчас я тебе покажу… ― Ада метнулась к россыпи бумажек, выдернула две фотокарточки, выставила их, не выпуская из руки, перед лицом девушки и низко склонилась к карточкам сама. ― Гляди у меня! Здесь ему, гляди, лет шесть. А какой уже взгляд! Тёмные глаза, переполненные, в них погружаешься без дна, тонешь. В них ― видишь? ― взрослая печаль, и грусть, будто мальчик уже обрёл недоступный другим опыт. А вот здесь ему всего два годика с месяцами, а взгляд ― видишь? ― уже с волнующей тайной. Какой мальчик! И я ― первая женщина его, я! Теперь всё его детство, вся юность его, вся молодость ― мои! ― Ада распрямилась, с размаху пришлёпнула фотокарточку к груди и в исступлении откинула голову назад и зажмурилась. ― Все печали, радости его, порывы, мечты, тайные слёзы, что его мамочка за ручку водила, из ложечки кормила ― всё! всё моё! всё было для меня! ― Она открыла глаза, опять склонилась к лицу Маши и, ударяя себя в грудь рукою с зажатыми фотокарточками, почти закричала: ― Я первая, я! Не ты, расписная, а я! Хороша ты, Маша, да не нова!
― Вы не только выкрали детские фотографии, ― неожиданно резко сказала Маша, распрямляясь, ― но и присвоили его молодость и красоту! А я уж было начала вам сочувствовать.
― Ха! Ещё одна сестра-сиделка объявилась, колврач от сочувствия! ― Ада победоносно развернулась и продолжила уже через плечо снисходительным тоном. ― И твою красоту, и твою молодость присвоит кто-то ну о-о-очень скоро ― за первым же крутым поворотом. Ха! Сочувствует она мне! Как, однако, не терпите вы победителей в шкуре побеждённых! Привыкли: кто красив, тот и прав! А меня вот мама-папа не товарною произвели: бегать приходится, крутиться, подолом трясти, чтобы раздобыть кусочек от красот людских, сам собою он мне не перепадёт. И плачу я за эту добычу по высшей ставке: здоровьем, годами своими, непродвижением по службе, остракизмом достопочтенной публики, не говоря уж за презренный металл ― это само собой.
― Иван Николаевич, ― изумилась Маша, ― как это: добывать себе красоту людскую?
― Ада Кирилловна имеет в виду, наверное, известный эффект выравнивания биологических свойств особей в группе под воздействием естественного отбора… Эффект этот распространяется и на пару муж―жена, в том числе и на свойства внешности.
― Впервые слышу про такое, ― живо заинтересовалась Ада. ― Колычёв не очень-то меня просвещает по научной части. Ну и?
― Линней с уверенностью говорит о мощном переливании красоты между близкими людьми, хотя я…
― Точно! ― Ада метнулась к Ямщикову. ― Я буквально кожей ощущала, как его красота вливается в меня! Шёлковая грудь… Точно! Какою я себя в жизни только не перечувствовала: и эффектной, и интересной, и интригующей, и экстравагантной, но вот красивой, по-настоящему красивой я стала воспринимать себя только с ним в паре. У меня и кожа расчистилась и разгладилась, и белее стала: кому надо ― это заметили. Так вот что переливание красоты… То-то я всю жизнь ― инстинктивно, что ли, ― стремилась быть с красивым рядом: до крови дралась за красивого партнёра на танцах, за красивую подругу, всегда к руководителю помоложе стремилась попасть, к сотруднику посимпатичнее, даже в общественном транспорте по возможности жалась к прекрасноликим и статным. Ха! Неужели мне и от них ― в нашем-то транспорте! ― что-нибудь перепадало?
― Да, но… ― Маша было замялась, но затем решительно продолжила, ― если красота переливается, то ваш любовник тогда стал менее красивым от такой близости! Иван Николаевич, ― с напором добавила она, ― если Аде Кирилловне прибыло, то от него убыло?
― Естественно, ― ответил Ямщиков. Он покосился на часы и вынул таблетку. ― У переливания красоты те же незыблемые природные основы, что и у коллективного врача…
― Так значит… ― в некотором ужасе сказала Маша, ― если выйти замуж за некрасивого, то… Нечестно некрасивому жить с красивым!
― Честно! ― Ада принялась засовывать бумаги и косметику в сумочку. ― Ещё как честно! Потому что некрасивый содержит красивого. Встань-ка в рабочий день у входа в метро, в шесть утра, посмотри: одни корявые да тёмные едут. А в девять-десять к офисам на своих машинах подкатывают ― будто совсем другой породы: гладкие, стройные, светлые, хоть картинку с них пиши. И в вечерней электричке пригородной в дачный сезон ― я специально приглядывалась ― ни одного красивого лица: ни мужского, ни женского, ни одной стройной фигуры ни в вагоне, ни на перроне: все добытчики пропитания ― изношенные страшилища. И в тот же вечер сходи на спектакль в драмтеатр: вот где малина ― слюнки у любой потекут, какие там мужчины ходят, пусть и одеты неважно. Есть, конечно, исключения, но правило: некрасивые кормят красивых. А за прокорм платить надо. Так что…
― Моя подруга выглядит не совсем… ― задумчиво и тревожно начала было Маша.
― Значит, качает твою неписаную красоту, а расплачивается, скорее всего, активностью, деньгами, тряпьём. Ведь заводила среди вас двух ― она?
― Она…
― И малиновое платье её?
― Её… Я поняла теперь, почему тогда… ― я как-то поздно домой возвратилась ― мамочка разругала меня, я ещё обиделась, с пристрастием таким спросила: «Зачем ты связалась с мокрой курицей? Покрасивее не могла найти?»
Новелла об Алхимике
Он выключил связь и взглянул через зеркальце на Колычёва:
― Решил всё же уходить из бригады?
Колычёв перестал щипать несуществующую бородку, втянул в себя воздух, задержал надолго, тихо выдохнул:
― Да. Дублёр вернётся ― уйду в алхимики, кличку свою оправдывать. Опять собой не владею ― в смысле, временем своим. Уйду из бригады, сбегу от жены ― всё одним разом…
― Я не отговариваю, но проясни. Ты первый уходишь: чтобы дурным примером не обернулось.
― Знаешь, как зовёт меня за глаза моя благоверная? Лабораторной крысой.
― Вас ― крысой?! ― полуобернувшись, вскричала Маша. ― Вы герои, творцы ― я читала. Сама она!..
― По телефону болтала как-то с подругой, забылась, а я дома был, и говорит: «А мой белый крыс…» В другой раз задрала планку до «сивого мерина». До чёртиков обидно, потому что отчасти верно. Я работаю, Иван, давно уже только ради вас с Линнеем, ради вашего дела. Ну не совсем вашего ― общего… Вернее, начинал ― ради общего, а теперь нет больше у меня времени на общее дело. Даже, прости, на прекрасную нашу компанию нет больше у меня времени: творческие годы уходят. Перегореть боюсь, если не уйду сейчас. Опять чувство, что бегаю как ипподромный мерин по корде. А мне нужно делать что-то своё, законченное. Чтобы называлось «Мазь Колычёва», как «Мазь Вишневского».
― Твои биохимические анализы так нужны…
― Да знаю я! Сейчас о «мере» скажешь, жизнь человеческую сравнишь с пользой от какой-то там мази, которой лечат чирьи, свищи. А ты мою жизнь измерь.
― Давай! Ты не один такой: каждый из нас в той или иной мере взнуздан, и все гоняем по кругу на крепкой верёвке, гоняем с самого рождения своего ― жизнь так устроена.
― Верно, ― живо подхватил Колычёв, ― именно «в той или иной мере». В том и дело, кто как эту меру для себя определяет. Одни «просто живут». Этим и незачем из замкнутого круга наружу рваться. То есть я плохо сказал: они и не думают, что обретаются в загоне. Другие ставят перед собою всякие немудрёные задачки. Эти довольствуются тем, что время от времени вырываются из круга. Но и такие есть, кто живёт как бы со сверхзадачей в бедной своей головушке, и живёт так с самого молоду, а иной ― с самого детства. Я из таковских. Невыносимо мне годами ощущать себя гоняемой по корде цирковой лошадью, пусть и с роскошным султаном на голове.
― Гоняемой? ― Маша снова обернулась к Колычёву. ― А кто вас, собственно… ― начала было она спрашивать, но запнулась.
― Есть такие, ― с горечью усмехнулся Колычёв, ― далеко искать не надо. Мать, отец, брат, дети, друзья лучшие, учителя, просто чужие люди, но которых за что-то уважаешь. Чем ближе человек, тем больший твой гонятель.
― К маме своей вы несправедливы, ― наставительно сказала Маша. ― Она добрейшей души человек и вас больше самой себя любит. Честно!
― В том и трагедь, девушка, что ― мать, и очень любит сына: ни в чём ей отказа от меня не должно быть.
― Отказа? Конечно, не должно. А в чём вы Галине Васильевне отказать могли бы? В магазин за хлебом сбегать? Это долг сыновний.
― Всё верно: это долг сыновний, и я его признаю. Как и то, что надо приобщать детей к труду, учить их беречь заработанную копейку, и так далее, и тому подобное. Но! К какому труду именно? Вот есть дети с неопределимой словами сверхзадачей. Их к какому труду приставлять? Землю лопатой копать? Заниматься хозяйством, бизнесом? Плохо им становится от таких занятий, самоубийственно плохо, жизнь становится в тягость. А куда смотрят взрослые ― родня, педагоги? Взрослые, как толпа косолапых Михаил Потапычей Топтыгиных, проходят мимо такой определяющей черты в своих детях, в упор её не видят. Проходят, по сути, мимо редких, лучших черт в собственных детях. Нашим топтыгиным прекраснодушным невдомёк, что это только телесная масса и интеллект у человека накапливаются долго, десятками лет, а духовный заряд ― и гигантский! ― может накопиться уже в отрочестве. Мальчиш-Кибальчиш, Гаврош, Элли из Изумрудного города, разве они ― в тщедушных оболочках ― не духовные гиганты? Когда я был подростком, ощущал себя носителем особого предназначения, некой миссии перед людьми, перед всем миром. Жил в таёжной глуши, среди медведей, а видел себя перед всем миром! В те годы охватившее меня томление толкало на поиски своего предназначения. Думал: чего я хочу?
А хотелось мне отличиться в чём-то необычайно хорошем, до чёртиков хотелось. Но как отличиться-то, как? И тогда я впервые столкнулся с мыслью: мне элементарно не хватает времени, чтобы всё как следует обдумать. Вы представляете себе жизнь мальчика в таёжном посёлке?
― Представляем, ― сказала Маша. ― Кругом природа…
― Для туристов ― да, кругом природа. А для меня ― кругом сараи и глухие заборы. На подворье скот и птица ― все пылят, орут, пахнут, гадят. Кошки-псы визжат, рычат, гавкают, дерутся, воют дённо и нощно. И вся эта животина бесконечно требует есть, пить, мыть, доить, чистить, а то и поиграть, приласкать или от паразитов избавить, прививки сделать. Как только не стал я душителем всего живого?.. Под окном трактор соседа-механика коптит и тарахтит часами, а иной раз, зимою, когда сильный мороз, и всю ночь. Кругом грязь непролазная, на дорогах ямы ― дна не видно, колея выше колена. Школа и магазин в посёлке ― у чёрта на куличках: в один конец без малого полчаса в пудовых сапогах идти. И изо дня в день будь любезен, сынок, копать, рубить, пилить, таскать, строить, ломать, чистить, красить, подправлять, сажать, собирать, колотить, за чем-то сбегать… О, это отеческое: «Колёк, ну-ка, сбегай!» У меня в печёнках «ну-ка, сбегай!» сидит! А эти вёдра, лопаты, вилы, носилки, бочки, косы, шланги, пилы, топоры, гвозди… ― я до сих пор на них спокойно посмотреть не могу! А навоз, глина, песок, земля, вода, опилки, доски, солома, сено, комбикорм? А дрова, металл, живица, а камень ломать в горах? Сколько тонн руды я руками перетаскал! А заготовки плодов: грибы для засолки, грибы для засушки, грибы для жарёхи? А морошка, клюква, голубика-брусника всякая, дикая малина вдоль ручьёв, а шиповник, будь он трижды неладен?! А орехи кедровые колотушкой сшибать, травы лекарственные на заварку копнами собирать, а мёд качать, картошку копать, рыбу ловить круглый год, на охоту ходить ― на лосей, на кабанов, на медведей?
― Вы ходили на медведей?! ― воскликнула Маша.
― Приходилось. Когда объявится у посёлка шатун, всем миром идём, иначе и скот, и лошадей, и всех кобелей переломает. Ещё на мне висели сараи, подвалы, чердаки, теплицы. Ещё кучи, которые нужно разбрасывать, ямы-канавы, которые нужно засыпать, заборы-изгороди, которые нужно ставить или чинить. И везде гвозди ржавые, стекло битое, проволока вострая, провода какие-то, искры летят. А лесные пожары тушить, а снег расчищать? А гнус, а комар, а клещи? Сколько себя помню: занозы, порезы, ушибы, растяжения, два перелома, привычный вывих плеча… Кровь из меня рекой текла. И всё это, девушка, мой долг перед родными людьми, я так его принимал, потому что все так делали, это правильно, и нельзя возмущаться. Противостоять родным людям труднее, чем врагам. Всю юность я прожил с убеждением: настоящая жизнь пролетает мимо меня, всё в мире не для меня делается и не для меня случается, а ко мне если и попадёт что-то, то случайно, по недоразумению.
И обо всём, что мне нужно было, я должен кого-то просить, а если не дадут, то добывать самому. Просить стеснялся: гордость, наверное, не позволяла клянчить.
― Вы так и прожили юность без самого заветного? Быт заел-таки?
― От заветного своего я не отступал, но и приблизиться к нему никак не мог, ну никак! А боролся упорно, прямо-таки бился за свободное время…
― Мне тоже не хватает свободного времени, ― озабоченно сказала Маша. ― Но бороться с мамочкой… не убирать квартиру… не ходить в магазины…
― Не «не ходить в магазины», а бегать в магазины. Я бегал ― и это было моим способом борьбы за свободное время, то есть за свою заветную жизнь. Скажет родитель: полоть огород. Надо полоть огород? Надо, о чём речь, самому же с него харчиться. И я бегу и в темпе принимаюсь полоть. А в голове ― тук-тук-тук! ― одна мысль: поскорее закончить, чтобы потом с чистой совестью заняться своим делом или, если желаете, своим ничегонеделаньем. Но «поскорее закончить», девушка, ― продолжал Колычёв, заметив разочарование в лице Маши, ― означает для меня отнюдь не тяп-ляп, а только непрерывность работы. Скрупулёзность ― свойство натуры людей моего типа. Вот те, кто преимущественно языком и ногами живут, ― вот они смело идут на небрежность, лишь бы вовремя отрапортовать, дело с плеч свалить.
― Ваш брат, похоже, именно такой, ― обратился Ямщиков к Маше.
― Ваня пойдёт на небрежность?!
Маша надулась и отвернулась от Ямщикова.
― В этом ничего обидного нет, ― сказал тот. ― Ваш брат предпочитает быстроту завершения дела, а где максимальная скорость ― нет качества, это естественно.
― Я, ― продолжил Колычёв, ― вкопал на огороде два столба, повесил на них прожекторы и летом работал ночами ― поливал, окучивал, полол. И так во всём. Скажут: копай ― копаю, не считаясь ни с чем ― обедом, временем суток, погодой, усталостью, потёртостью ладоней. Скажут: носи ― ношу-надрываюсь, жилы тяну, искривил позвоночник, грыжу нажил, а ношу без остановки. Скажут проклятое: «Колёк, сбегай» ― бегу что есть мочи… И таким путём я заслужил в посёлке статус примерного сына-помощника. Все поручения по дому, по школе, по общественной части ― все выполнял обязательно, безукоризненно и в отмеренный срок. Вот и поднаваливали забот больше, чем другим. И круг замкнулся… С отрочества, Иван, с самого отрочества погружение в заветное приходилось ежедневно откладывать на потом, на когда-нибудь. И я стал привыкать к состоянию конформизма, как привыкает человек к хронической болезни.
― Это я понимаю, ― внушительно сказала Маша. ― Но ваша мама не виновата. Да и как отличишь в подростке ― сверхозадаченный он или бездельником растёт? У меня дети пойдут ― как я отличу?
― Я не виню никого, ни боже мой! У поселкового сибирского люда откуда тонкости взяться? Моя западня не врагами устроена, а житьём-бытьём самых что ни на есть простых людей. А вырваться можно было? Можно. Но одним только путём ― бежав из родного дома в большой город. Я и думал о побеге, не раз, планы строил, но так и не решился до конца. Вернее, сбегал дважды, но через пару-тройку дней возвращался ― молча. Потому что ― ну как же, знал: мать убиваться станет, да и занятия в школе пропускать нельзя.
Да и, чего скрывать, уставал быстро, не высыпался, и кушать хотелось до смерти: о хлебе насущном, оказалось, заботиться надо, о ночлеге, а я-то сбегал, чтобы думать о заветном и претворять.
Да-а-а… Не хватило характера… Просто характера не хватило, чтобы через родню, через друзей, учителей перепрыгнуть, через пресловутый долг свой.
― А вы знаете, Иван Николаевич, ― сказала вдруг Маша, ― я ещё одну кличку Ванину вспомнила: «Муравей». Его так бабушка наша зовёт иногда ― за бескомпромиссность. Ну и за всё прочее муравьиное: что трудяга, суетится вечно во благо семьи, в дом несёт, и всё такое, но главное, это я точно знаю, ― Маша обернулась и горделиво взглянула на Колычёва, ― за его бескомпромиссность в отстаивании всего своего.
― Я и говорю о себе: законченный конформист, ― вымученно улыбнулся в ответ Колычёв. ― И по странной случайности, девушка, бескомпромиссность муравьёв ― не отвлечённое для меня понятие, а, пожалуй, близкое ― по своей противоположности. Я по сию пору восхищаюсь бескомпромиссными поступками людей, Линнея особенно, а когда-то, в ранней юности, первый урок преподали мне именно формики ― рыжие лесные муравьи. Бесполезный урок. Я тогда начинал помогать отцу собирать живицу. Работали в назначенных в рубку перестойных сосняках, а на делянках полным-полно было громадных муравьиных куч. Некоторые высотою до плеча моего доходили. И пристрастился я схватки меж разноплеменными муравьями затевать. Какие только сюжеты битв не испробовал: то малюсеньких чёрных мирмиков откопаю из земли и подкину на кучу к большим рыжим, то с поляны жёлтеньких лазиусов принесу на лопате, вместе с землёй, и на головы здоровенных чёрных древоточцев на трухлявом пеньке ссыплю… А итог был неизменным: следовала мгновенная схватка не на жизнь, а на смерть. И главное: схватка происходила невзирая ни на какие исходные условия. И вот это «невзирая» ещё в детстве восхищало меня. Ну на что может рассчитывать слабенький почвенный копуша лазиус двух миллиметров длиной, вцепляясь в лапу мощнейшего полуторасантиметрового древоточца, который своими мандибулами может бревно в решето искрошить? А сейчас… Умозрительно если, я уважаю людей, могущих поступать «невзирая». Уважаю как носителей недоступного мне свойства, ценного для человечества. В тебе это, Иван, уважаю, в Линнее особенно. Но нахожу это свойство несправедливым в отношении любого иного человека. Да, несправедливым! Что есть в эволюционном смысле свойство индивида поступать «невзирая»? По-моему, это фактор собственного выживания в ущерб другим в группе.
― Но фактор «невзирания» компенсируется, Николай, ― откликнулся Ямщиков. ― Этим «невзирающим» крутенько самим воздаётся, ой как круто. Ты вот жив-здоров, а поднимать от земли едешь как раз такого несправедливого и «невзирающего» и, кстати, бездетного. Такие часто все исходят на борьбу, на отстаивание всего своего, а времени и физических сил на воспроизведение у них не остаётся. Принцип «Всё или ничего» ― он для миокарда. И у меня, и у Линнея тоже детей нет, а половина репродуктивного возраста уже позади. Вот и выживи тут, «невзирающий». Кто в старости воды поднесёт? У тебя, Николай, худо-бедно, парочка чад имеется, кормильцев и защитников будущих, а с любимой женой, глядишь, и четверых нажил бы…
― А зачем вы женились на ней? ― спросила вдруг Маша, обернувшись к Колычёву. ― Разве не видно было человека, пока в невестах ходила? Вы же муравья насквозь видите! Как только вы можете ― после такого! ― соглашаться жить с нею?
― Этому соглашательству, чудо-девушка, сегодня пришёл конец. А как женился… Женился-то я за один вечер, даже за час, зато сходился лет десять, не меньше. Какие пути-дорожки сводят его и её на семейную стезю ― не стоит и гадать, но некая предопределённость, думаю, есть. Я почему-то ассоциирую отправную точку нашей с Адой встречи с одним событием в детстве… Во все летние каникулы я помогал отцу собирать живицу. И, бывало, насечки на стволах мазали кислотою ― чтобы усилить истечение смолы. Запрещённый, конечно, приём, но я тогда этого не знал. Как-то работал я на делянке в одиночку и забрызгался кислотой, даже, можно сказать, облился. Тепло было, раздет по пояс был ― гнус не сильно донимал ― и сжёг себе кожу на груди, на руках, чудом на лицо не попало. Выступили пятна. Они и по сей день при мне, родимые, давно перестал на них внимание обращать, но в то время сильно переживал. Пришёл как-то на речку, разделся, а ребята ну хохотать ― беззлобно, конечно. Девочки тоже были, одна мне нравилась. Подбежали и они поглазеть ― фыркать стали. Оделся я, ушёл и с той поры девчонок сторониться стал, а те ― меня, как прокажённого. Я и танцевать не выучился поэтому: боялся получить отказ ― и не приглашал. Мать с отцом успокаивали как могли, на соседей указывали: там супруги паром в котельной ошпарились ― и живут себе! Но я-то готовился не к поселковой жизни, а к покорениям, к учёбе в Москве. Что ж мне в столице запахнутым стоять, стенку подпирать, а вокруг красивые парочки будут прогуливаться? Эх, и обидно до чёртиков мне становилось от мыслей таких ― ну что красивые девочки не станут со мною под ручку гулять. Фильмов насмотрелся ― и завидовал впрок. А потом как-то баночку с вазелином в руках держал ― и осенило: это ж стезя моя заветная! Раз и на веки вечные осчастливлю того, кто, стоя перед зеркалом, страдает от созерцания паршивой кожи своей, тайно страдает, один на один против всего красивого мира. И никто-никто пока не знает, думал я, что появился уже на свете человек, способный эликсир красоты сработать ― в скором будущем, когда вырасту. Я был уверен тогда: никто до меня даже не пытался по-настоящему такой эликсир составить ― в сказках, понятно, не в счёт. «По-настоящему» ― это значило ценою приложения неких безмерных усилий, даже, пожалуй, не мешало бы ценою личной жертвы. Да, помнится, я стремился именно к жертвенной работе.
А наставником был учитель химии. Странный человек, пришлый, ни кола ни двора, проштрафился где-то, у нас обитал на добровольном поселении ― он-то и подготовил меня к университету. Сделали в старой бане настоящую лабораторию. Когда отец новую баню срубил, я не дал старую ломать, а все лавки-полки выкинул, вытяжку поставил, печку из огнеупорного кирпича выложил, чтобы стекло дуть, в общем, чудо какая алхимлаборатория вышла! Особенно я смолы полюбил. Медицину изучать стал, а все наши рецептуры пробовал на себе и на добровольцах поселковых.
― И ходили? ― спросил Ямщиков.
― Ещё как: полно болячек у людей. Придут ― кто мажется, кто так часами сидит, не выгонишь.
― Помогало, что ли? ― совсем уже заинтересовался Ямщиков.
― Объективно ― вряд ли. Кто говорил ― помогает, кто ― нет, но выдающихся побед, конечно, не было. Экзему, впрочем, грибок на руках-ногах, лишаи у собак ― лечил запросто.
― Значит, за атмосферой ходили, ― сказал Ямщиков удовлетворённо. ― В алхимклуб за общением с колврачом.
― За атмосферой колврача?.. ― Колычёв, прищурив глаза и потирая несуществующую бородку, на минуту задумался. ― Очень может быть… Атмосферка была в моей баньке, конечно, жизнеутверждающей, бодрящей. Ну а затем поступил на химфак и с первого же курса стал сотрудничать с лабораторией косметических препаратов. Работал над модельной рецептурой из новейшего сибирского сырья, причём быстро добился самостоятельности. Но обстановка в альма-матер не всегда мне с руки была. Я у этих зазнаек городских все годы учёбы в лапотниках проходил, в дикарях. «Глухотка» ― и всё тут! Ни к одной компании прибиться не сумел: как приближусь ― помыкать начинают, я и бегу. Кличкой зато наградили: «Алхимик»…
― А с девушками гуляли? ― спросила Маша.
― Куда там! Я как эти табуны красоток увидел, перепугался до чёртиков, ещё сильнее зажался. Бойкие такие, идут ― толкаются, копытами стучат, курят, ты ей слово, она в ответ ― десять и комментирует вслух всё, что видит, никакой задушевности.
― Не все такие, ― сказала Маша с небольшим нажимом.
― Ну, думал, покажу я вам, парнокопытные мои! ― улыбнулся Колычёв своим мыслям. ― В ногах валяться будете, не предо мной ― перед косметикой моей. Запатентовал сначала два препарата… А в общем, позорно остыл я к болям человеческим: всё пятна пигментные выводил на добровольцах и прочей дурью маялся, к модному делу старался прибиться. И вот пятикурсником делал обзорный доклад на международной конференции по косметическим препаратам. От его успеха моё «модное» будущее зависело ― так выложился полностью. Начинал с Овидия: «Розы сухих лепестков набери, сколько схватишь в пригоршню. Ладан мужской подмешай к ним и Аммонову соль…» Миру доказывал, что сибирская тайга ― непочатый кладезь косметики. Очень, считал, актуально это для мира… А по окончании докладов, когда в фойе вышли, ко мне подкатила Ада Кирилловна и таких комплиментов навешала!..
― Как интересно!.. ― выпалила Маша. ― Я хотела сказать…
Неужели у вашей супружеской пары как у всех начиналось? Зачин хотя бы счастливый был или?..
― Зачин был всё же с леса, с ожога кислотой, ― после небольшого раздумья сказал Колычёв. ― А в тот миг… Она стояла прямо передо мной, вплотную, чуть не прижимаясь, я дыхание её ощущал своим лицом. И говорит, говорит, говорит восторженно! А я стою и не верю: «Не может быть! Это всё она обо мне?!» Но её глаза ― вот они, перед тобою, они не лгут. Охватило чувство, будто жар-птицу за хвост ухватил и возношусь… Ещё до окончания своего доклада уверен был: теперь меня ждёт настоящий успех ― полный, а не только деловые предложения от косметических фирм. Сегодня оглянешься на себя, молодого, и даже неловко станет: ведь и тогда вроде дураком не слыл, а так влип…
― Восторг дурачит, ― кивнул Ямщиков. ― Ты бы в тот день мог запросто влюбиться и в дождевого червя, умей тот развешивать комплименты.
― Долго мы в тот вечер гуляли по набережной… Как в кино… Есть в ней всё же что-то такое, привлекательное для мужчин, для многих, и мальчишек…
― Мальчишки ей уступают просто, ― гневливо сказала Маша. ― По слабости характера. Себя пока ценить не могут, дурачки.
― А я был счастлив с ней в ту ночь. Предложение сделал… Зубы её влажные в темноте блестели, как фарфор. В глазах огоньки играли от дорожек света на воде. И она счастлива была ― сияла вся, здесь не обманешь. Это когда ещё потом я жизненные установки её понял…
― Какие установки? ― полуспросил-полусказал Ямщиков. ― Каждый мужчина ― новое наслаждение, живи с одним ― наслаждайся с каждым?
― Ну, честно, ― подхватила Маша, ― она катится по наклонной и всех на своём пути сшибает! Вы на ней женились и, может быть, спасли от погибели на скользкой дорожке, а где благодарность?
― Будет, будет вам наступать, ― смутился Колычёв. ― Как женился, сразу стал пахать ради жены. Так для себя и определил: работаю для жены ― временно. Она одна в большом городе загоняла меня больше, чем весь быт в леспромхозном посёлке. Подай ей успехи показушные, развлечения престижные ― это чтобы похвастаться чем было, подай товары заморские и лучшую еду, и, главное, ― вещи, вещи, вещи! И подвиги ради неё подай. Лечил её: очистка организма, дюбаж печени, мезотерапия, клизмы с травами, отвары, мази составлял… Но если природа очень серьёзно недодала, лечение не поможет, разве что самую малость. Прыгал вокруг жены, а подумать о своём опять некогда. А когда любовь кончилась, наступило время работать уже ради ребёнка и ради матушки ― она состарилась как-то сразу, на их орбиты попал, матушкины представления о городском преуспеянии оправдывал. Ещё несколько лет в этой круговерти ухлопал. Потом, Иван, с тобой встретился. Большое дело меня окрылило. Но у колврача не определишь: что сделал лично я, какова моя роль в конечном результате ― выздоровлении либо смерти больного. Ваша с Линнеем маниакальная взыскательность к делу мешает его завершить, и оно остаётся как бы полуфабрикатом. В нескончаемой погоне за призраками я простые жизненные приоритеты растерял. Всё смешалось: работа в бригаде, мужская дружба, семья ― всё! Опять, вышло, не своим делом я занят. А годы бегут. «Мазь Колычёва» и новая семья ― с этого дня вот мои новые цели. Мои!
― Работая в одиночку над «Мазью Колычёва», ты опять станешь любителем.
― Противопоставлять любителей и профессионалов имеет, конечно, смысл. Только, замечу, Ноев ковчег построил престарелый любитель, а «Титаник» строили лучшие профессионалы. Всё: возвращаюсь в алхимики…
― Да-да… Мне наука ― о кадрах, ― Ямщиков притормозил перед поворотом. ― А я думал: погоня за призраками ― в самой натуре алхимика. Ага, карета уже здесь…
Новелла о самарской Марлен Дитрих
Тут полковник Бутусов, пряча сотовый в карман, подошёл к Ямщикову и шепнул ему на ухо:
― Мои люди нашли девчонку, с которой больной провёл последний вечер…
Глава 15. «Мы с тобой одной крови»
― В день падения наш больной интимных контактов не имел, хотя выпивал ― есть алкоголь в крови, ещё табак на коже и в волосах, на одежде, ― докладывал полковник Ямщикову, когда они садились в машину. ― Я отправил фотки больного своим друзьям из безопасности, те прошерстили записи телекамер у злачных заведений в тот вечер и нашли таксиста: он вечером отвозил Саблина с какой-то тёлкой от кабака до подъезда. Тёлка была в странном прикиде, взъерошенная и с поцарапанной мордой, одета как жокей на выездке лошадей. Из такси вышли оба.
― Но в квартиру больного она не вошла…
― Расстались в подъезде. У нас появилась или подозреваемая, или свидетельница, ― гордясь своей работой, сказал полковник и тронул машину. ― Ты вздремни, до её квартиры ехать минут тридцать, если без пробок. На последней одежде Саблина я нашёл женский волос ― рыжий, толстый, крашенный в зелёный цвет, и след губной помады чёрного цвета. Ещё нашёл золотистые блёстки, которыми бабы лицо обсыпают. Мой знакомый спец установил: это из коллекции декоративной косметики лесбиянок ― для них теперь выпускают специальные палетки глиттеров. Точно такие же блёстки с помощью пылесоса нашли в машине того таксиста и на лестнице в подъезде. Считаю доказанным: тёлка поднималась с больным на его этаж, но в квартиру почему-то не вошла.
― И помада чёрного цвета… ― отозвался Ямщиков, устраиваясь и зевая. ― Думаешь, лесбиянка?
― Очень вероятно. Причём начинающая.
― Которая то с девкой, то ― по старой привычке ― с парнем?
― Так точно! А больной у нас ― натурал. Значит…
― Познакомился только что.
― Так точно! Он, возможно, даже не успел расчухать, на кого напоролся.
― А как расчухал ― уже в подъезде ― так сиганул по пьяни в пролёт.
― Сам сиганул ― это если только слабак…
― Или если наложилось, а недоделанная лесбиянка стала последней каплей. И дубы ломает.
― Как вариант.
― Или она его сбросила: у начинающих лесбиянок крыши едут.
― Чтобы ссыкуха-то сбросила? Маленькая, с обсыпанной блёстками мордой, с чёрной ваксой на губах ― сбросила крепкого парня, с которым только что познакомилась? Не вижу физической возможности и мотива. Нет, брат, криминал в этом деле маловероятен ― нутром чую. У больного была предрасположенность к самоубийству ― друзья-мушкетёры и Панина на то указали чётко. Скорее, как ты говоришь, наложилось ― вот он и решил для себя вопрос кардинально.
Ямщиков проглотил медиаторы, запил и уставился в ветровое стекло. Он машинально высматривал дорожные ямы и о чём-то думал. Опять мимо мокрого леса ехали в город по Волжскому шоссе. Ночной шквалистый дождь сменился теперь плотной водной взвесью, не то сдутой с низких туч и обступивших ленту шоссе грязно-чёрных деревьев, не то поднятой ветром от рябых свинцовых луж и сырой земли. Небо, всё в серых клочках, летело со стороны Волги поперёк движения машин. Кое-где между несущимися над верхушками деревьев языками туч обозначалось присутствие солнца. Ветер дул, но уже без сильных порывов. Упавшие за ночь рекламные щиты ещё не подняли. В разгар дня основной поток машин нёсся, чуть-чуть превышая положенную скорость. Нередкие во все времена самарские лихачи и блатные мчались невзирая на ограничения и разверзшиеся в марте колдобины. В правом ряду ползли старики, «деревенщина» и дамочки из числа начинающих. Их машины обдавали водой все идущие на обгон. Полковник вёл машину с превышением скорости: «Дежурит знакомая рота. Наряды мою машину знают…»
Ямщиков задремал…
Когда машина остановилась перед входом в здание, он очнулся. Бутусов доложил: сотовый той девицы заблокирован, а сведений о месте работы и регистрации пока не нашли. Зато выяснили, где трудится её муж, некто Василий Моторин, и это офис телефонной компании, где он работает руководителем среднего звена.
― Ещё заехал, как ты просил, «за коробочкой». ― Бутусов положил на протянутую ладонь Ямщикова квадратную коробочку, обтянутую тёмно-синим бархатом. ― Ты что ж, заказал кольцо по интернету?
― Для Марьи…
― Прогресс: теперь ты уже и имя своей невесты знаешь. А размер?
― Размер проверил с натуры.
Ямщиков поднял свой мизинец.
― Тогда молчу. Хотя… Рисковый ты, как наш больной и тот его друг, майор Коркин. Берёшь Марью, мне кажется, больше из сочувствия. Я по своим парням из горячих точек знаю: такие, как у неё, черепно-мозговые травмы потом могут аукнуться…
― Ты меня поучи насчёт рецидивов сотрясения мозга! ― мгновенно раздражился Ямщиков. ― Авторитет по браку выискался ― с тремя-то разводами!
― Прости, друг. Я ― другое дело: я из категории русских бед ― «дураки и дороги».
― Пропишу и обеспечу Марье режим когнитивного отдыха ― и справимся: «Нас не догонят!» На свадьбу ― как штык!
― Как штык! Подарок уже в загашнике. А слаб человек…
― В смысле?
― Я, кажется, уже позавидовал на твою жену-декабристку…
Полковничье удостоверение сподобило охранника срочно вызвать Моторина. В фойе вышел прилично одетый молодой человек крайне исхудавшего вида с тёмными кругами под глазами, один глаз дёргался. На лице его отражались тревога и удивление, больше тревога. Бутусов ввёл мужа виновницы встречи в курс дела: она единственная подозреваемая, её нового знакомого сразу после их свидания нашли упавшим в лестничный пролёт, он уже неделю находится в реанимации в состоянии комы, хотя факт преступления пока не установлен. Мотив ревности следствие не исключает, поэтому ты, Моторин, в числе подозреваемых. Сейчас нам нужно знать местонахождение твоей жены. Если вздумаешь валять дурака, немедля вызываю оперативную группу или…
― Сам тебя сейчас задержу ― хотя бы для того, чтобы спасти от мести друзей потерпевшего, ― добавил полковник и показал на экране своего сотового эпизод, когда мушкетёры и Коркин мяли Клямкина. ― Это в студии, полтора часа тому назад, а в подворотне дождливым вечерком эти парни могут расправиться очень жёстко…
― Какая там ревность! ― отшатнулся Моторин, дёрнул головой и нервно хрюкнул. ― Да она давно мне никто! Когда только оставит меня. Прицепилась! Решено: свалю в Симферополь… Что знаю, всё расскажу. Можете в офис подняться, в отдел ― и расспросить.
― Для начала нас интересует личность вашей жены, ― сказал Ямщиков.
― Личность ― ненормальная! Довела! Я до сих пор по ночам не сплю, чуть с работы не выгнали.
― Меня раз десять «чуть с работы не выгнали», ― протокольным тоном сказал полковник. ― Со мной, борцом с ОПГ, три жены развелись. Почему ты один раз не развёлся?
― Я развод ей давал, двух лет не прожили. Теперь купил развод за приличные деньги, в долги влез. Но здоровье дороже: похудел на десять кило, видеть баб не могу…
― Причина развода.
― Артистка она, понимаете ли! Ездила поступать во ВГИК, вернулась с побитой мордой. На экзамене крашеную собаку пыталась выдать за соболиный мех, а себя ― за Марлен Дитрих. Не доверяю я ей. Взбалмошная, а ревность и месть если были, то с её стороны.
― Примеры.
― Примеры?.. Проснулась в постели со мной ― и обиженно смотрит на меня, брезгливо, отстраняется, как от жабы какой. Ей, понимаете ли, приснилось, что я изменил с её подругой. Или раз ― через охрану! ― прорвалась сюда, в мой офис. Влетает, а я в тот момент тёр в асе со знакомым перцем ― чисто производственный трёп. Спрашивает на публику ― с язвой такой: «С кем, мой суженый, болтаешь?» Я: «По работе, пожалуйста, не мешай». Она втыкается в монитор, и ― как назло! ― тут мне одна деваха, знакомая ещё с института, кидает письмо: «Васисуалий, когда ты меня наконец кликнешь?»
― Теперь это так называется? ― больше самому себе сказал Бутусов.
― Деваха просила всех знакомых кликать на её баннер ― для раскрутки нового сайта. И вот это окно вылетает посерёдке экрана, на баннере заголовок с именем девушки и мордашкой. Ну смазливая она от природы, на вид шлюховатая даже, плюс макияж. Моя кобра мгновенно взрывается, шипит: «Ты на работе своих тёлок кликаешь!», смахивает монитор на пол, пинком валит блок, выдёргивает провода, грохает стеклянной дверью и уходит с криком и гордо поднятой головой. Я потом еле-еле начальство успокоил, а дома весь вечер её убеждал: что действительно базарил с кренделем, а окно выскочило ― разовое: кликнул баннер ― забыл. Приказал охране больше её на работу не пускать. Стала караулить меня на выходе с работы: позорить перед коллективом. Она вся буквально тряслась, когда видела, что я общаюсь с молодой женщиной. А в нашей компании восемьдесят процентов ― молодые женщины, характер работы такой. Или однажды побывала у нас на корпоративе. Потом требовала, чтобы я уволился: нарочно, мол, в клумбу залез, чтобы цветочки срывать.
― Ты не уволился ― и тогда?..
― Накупила тряпок, покрасила волосы ― была рыжей, стала фиолетовой, сделала новую причёску и принялась напропалую кадриться с моими приятелями, с незнакомыми мужиками, чтобы, наверное, отомстить, вызвать ревность. Может быть, и спала с ними, не знаю, не следил ― нет на глупости времени. В квартире барахло не от меня стало появляться, спрашиваю: «Откуда?» ― «Подарок» или «Отец купил». Но я знаю: не любят её родители, выставили из дома, из Обшаровки, ещё после седьмого класса, к бабушке в Самару сбагрили, ― и она своих родителей знать не желает. Она никому такая артистка не нужна! Только я нашёлся дурак… Ну и решил разводиться. Почти развёлся ― дело в суде. Это не жизнь: ни работы, ни отдыха. Хорошо, детей нет: сначала она не хотела, не терпит детей, а уж потом я не захотел рисковать…
― Не ревновать можно только того, кто вам безразличен, ― сказал Ямщиков. ― Так что или терпеть ревность, или терпеть одиночество. Только, думаю, не в ревности дело.
― Да шлюха! ― с презрительной гримасой уверенно сказал Бутусов. ― Обычная тактика замужней шлюхи: прикидывается ревнивой и обвиняет мужа, чтобы отвести его подозрения и свои похождения оправдать. У неработающей молодой бабы новые вещи если не от родителей и не от мужа, значит, подарки за известные услуги. Ещё пример, ― продолжил допрос полковник. ― Через примеры срисуем характер.
― Я понимаю: вам нужно оценить предрасположенность к совершению уголовного преступления. Тогда зацените нашу последнюю ситуёвину: есть у меня фиолетово крашенная жена и есть очаровательная в своём белокурии секретарша у моего шефа. Девушка из сериалов: всё при ней. Со мной ― никаких отношений, кроме служебных: «Привет!», «Шеф на месте?», «американская улыбка» ― и всё. Но жене вдруг почудилось, что та на меня «глаз положила».
― Была бы умной или любящей женой, ― обратился полковник к Ямщикову, ― взяла б да осмеяла эти попытки: «Милый, ты заметил, тот белокурый оленёночек из приёмной шефа глаз на тебя положил».
― Или насмешила бы вас на эту тему, ― добавил Ямщиков. ― Со смешными женщинами не флиртуют.
― Или, ― воодушевился на тему Бутусов: ― «Дорогой, я так люблю тебя, что иной раз ревную. Даже к той секретарше ― смешно, не правда ли? Я понимаю, к ней-то ревновать совсем глупо: кто она ― и кто ты». Делаю рабочий вывод: баба дура и шлюха, косит под кого-то, играет чужую роль. А что переполнило чашу?
― Вступила в клуб верных жён ― нашла где-то в интернете. Даже в Писании выискала и заучила: «Похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». На короткое время стала вдруг ласковой: «Кис, как я тебя люблю», тряпки новые, улыбки премиленькие. Просто ангелочек с крыльями с дореволюционной открытки. Оказалось, в клубе верных жён подучили, «как спасти мужа от разлучницы». Я удивлялся сначала: «Это ты к своему дню рождения почву готовишь? На норковую шубу рассчитываешь?» Обиделась. «Ты не Ремарк!» ― кричит мне прямо в лицо. Зачем выходила замуж не за Ремарка? Услышал случайно, как по телефону с кем-то из клуба верных жён говорила: «Но я ему развода не дам… Ну тогда пусть откупается половиной имущества…»
― Возможно, переживала, ― сказал Ямщиков. ― Ревность может питаться одним воображением об измене. Отстроенный свой мир, может быть, так спасала.
― Да не верю я в её ревность! Больше хотела поставить меня в невыгодное положение оправдывающегося. Я ей не изменял, хотя возможности были и есть. Любой самый верный мужик обязательно заценит девушку в макияжах, эстетики ради, хотя бы взглядом проводит, но разве это повод для ссоры? Я не требовал от неё никакого растворения в муже типа чеховской Душечки, нет ― у нас, я надеялся, будет союз равных. Ну пусть перерос бы он позже в спокойную, как паровое отопление, любовь-дружбу…
― Ещё пример.
― Ещё одно время намеревалась меня истощить как мужчину: «Чтобы на других женщин ничего не осталось». Всякие излишества предлагала: меняться ролями, намекала ― конкретно! ― на секс втроём, на какую-то групповуху на базе отдыха в их клубе верных жён ― неудобно даже говорить.
― От безделья, ― сказал Бутусов. ― Пока ты день-ночь пашешь, насмотрелась порнухи ― и потянуло на приключения. А клуб замужних б… явно сводничал: вербовал похотливых дур для уважаемых клиентов, которые не хотят опускаться до проституток. Замужние б… ― это же совсем другой эмоциональный уровень, гарантия здоровья, престиж ― зацени! Есть кем в сауне похвалиться перед друганами. Значит, склонность к ненормальностям проявилась ещё при семейной жизни…
― Если задатки есть, то должны были проявиться раньше, ― вставил Ямщиков, ― в старших классах школы.
― О её прошлом знает разве только подруга. А сегодня она что ― пустилась во все тяжкие? ― Моторин снова непроизвольно дёрнул головой и хрюкнул. ― Раза три являлась домой побитой, в порванной одежде.
― Куда пустилась и во что вляпалась, узнаем через часик-другой, ― сказал Бутусов. ― Где она сейчас живёт, где работает, шарится?
― Под обещание развода я отдал ей половину стоимости квартиры, у меня расписка есть. С такими деньгами вряд ли она работает. От ревности отличное лекарство ― занятость делами, но Марлен, она ни дня не работала, пинками на работу не выгонишь.
― Марлен? ― ещё больше посуровел Бутусов. ― Это кличка?
― Простите, она воображала себя Марлен Дитрих. Требовала, чтобы все обращались к ней Марлен, в интимные моменты ― Мутти. Даже курила на манер Дитрих и пробовала петь «под Марлен». Всё как кошмарный сон… Заучила наизусть сотни максим из мемуаров Дитрих и кроет ими по любому поводу. Я ― ей: «Тебя не волнует, что я опять отравился твоим ужином?», она: «Истинная женщина не волнуется ― волнует». Считала себя даже не принцессой, а королевой. А то начала ходить в какую-то студию: брать уроки по сценическому движению. Потом к нам домой из этой студии стали ходить парни из Академии культуры: сначала один, потом другой, третий, заявлялись даже целой толпой. Какие она с ними движения изучали, пока я на работе был, ― вопрос.
― Скрытую камеру бы установил и узнал ― делов-то, ― фыркнул Бутусов.
― Не догадался. В конце концов эти парни где-то за Волгой избили её, несильно, правда, ― насолила чем-то, наверное, ― и пропали.
― Это как нужно было насолить, чтобы студенты-актёры из Академии культуры избили замужнюю женщину, бесплатную свою давалку!
― Наверное, так и есть ― давалку… Однажды явилась ко мне в офис в гриме под старуху. Оказывается, «отрабатывала сценические движения Бабы Яги» ― задание такое получила от своих наставников. Я уверен, они прикалывались, а эта ― повелась: волочила ноги, позвоночник дугой, в старушечьем побитом молью платочке, с клюшкой в руке, горошина-бородавка на нос прилеплена, глаза слезятся, одышка… В другой раз припёрлась в красноармейской форме, в будёновке, топала в сапожищах, хоть бы размер её подобрали, доложила: «Мальчиш-Кибальчиш явился в отпуск после кровавого ночного боя!» Потом весь офис насмехался: «От Моторина по ночам жена сбегает на «кровавые бои» ― теперь это так называется…» Да ну! Квартиру захламила: присесть негде, дышать нечем. «Ах, дышать нечем? ― говорит. ― А ты дом на просеках купи». Красных платьев нашила себе штук пять: как же, ведь незнакомые мужчины всегда интересуются: «А кто эта девушка в красном платье?» Целую коллекцию старых пластинок с песнями Дитрих завела ― мне в сумасшедшие деньги влетело. Готовит плохо: что от её рук ни съешь ― тошнит. Жарит на бараньем сале, как в деревне с детства привыкла, ― вонища в квартире! Поджарит яичницу ― мне плохо, в унитаз кишки вырывает, желудок не удерживает столько жира. Сама этого не ест, а надо мной будто эксперименты ставит. Зато развесила по всей квартире фотографии: она, вся из себя вдохновлённая, у плиты, с винтажной сковородой, с чугунком, в расшитом кренделями переднике ― «хозяюшка»! Я даже согласен был: иди ко мне в офис работать, иди, ― следила бы за мной вблизи и успокоилась. Она ― ни в какую: «Я с «инязом» ― и в простые операторы связи?» Живёт, наверное, у своей бабушки, а шарится… Один мой друг видел её на днях у кабака. Перекрасила волосы из фиолетового в зелёный цвет, губы чёрные, прикид мужской ― страшное дело, он её еле узнал. Достала! Наша фирма открывает новый офис в Симферополе ― убегу на время туда…
Бутусов выспросил у Моторина, где тот находился в момент совершения возможного преступления, записал адреса, телефоны, вероятные места встречи с бывшей женой.
Выйдя из вестибюля, полковник позвонил бабушке Марлен и смог старушку разговорить. Та рассказала: дня три тому назад внучка вызвала такси и уехала в косметический салон, после которого собиралась, как она сказала, «на свидание». С тех пор не возвращалась, не звонила. Она и раньше по нескольку дней пропадала. Подруга есть: Лора, мастер-косметолог, внучка как раз с ней по телефону договорилась. Эта Лора ― такая оторва! Конечно, не замужем ― кто возьмёт! Всё делает из внучки ряженую куклу, подбивает на сомнительные приключения…
Напав на свежий след, Бутусов преобразился: задышал шумно, заблестели глаза ищейки. «Погнали в салон!»
Пока ехали, припоминали ― кто что знал ― о Марлен Дитрих. Что может стоять за маниакальным подражанием заурядной сельской девицы из Обшаровки знаменитости Марлен Дитрих? Ямщиков открыл ноутбук, вошёл в интернет, набрал «характер Марлен Дитрих» и стал читать вслух, перекидываясь репликами с полковником. Кинозвезда середины прошлого века была замужем за кинопродюсером Рудольфом Зибером и никогда не разводилась с ним. Факт замужества помогал женщине-вамп тихо-мирно завершать романы: «Я не могу сделать больно Руди…» Дитрих имела просто скандальные толпы любовников и любовниц. Самым известным её любовником был писатель Эрих Мария Ремарк. «Мария» в имени мужика? Странно… Он сам выдумал себе женское имя, ведь по метрике писателя звать Эрих Пауль Ремарк. Дитрих тоже себе выдумала новое имя, от рождения она звалась Мария Магдалина фон Лош. В первом же разговоре с кинозвездой Ремарк ляпнул: «Должен сказать вам, я ― импотент». «Прекрасно, ― ответила Дитрих. ― Мы сможем просто лежать и разговаривать». Дитрих напропалую изменяла Ремарку с мужчинами и женщинами. При этом она обожала таскать его в те места, где обретались её новые возлюбленные, чтобы на фоне известного в Европе Ремарка привлечь внимание последних к своей персоне. Самовлюблённая шлюха! Суфражистка, пренебрегающая собственной дочерью, за что последняя потом отомстит матери: напишет о ней весьма нелицеприятные вещи, развенчивающие безупречный образ в массовой памяти. Сама Дитрих ревновала Ремарка к бывшей жене и его любовницам, которых писатель заводил назло Дитрих. Это была ревность не любящей женщины, а ревность самолюбивой собственницы, ревность «второго сорта». В конце концов, Марлен Дитрих стала для Ремарка гремучей смесью ангела с дьяволом. В «Триумфальной арке» с неё списана Жоан Маду ― законченная стерва, в которой переплелись в один клубок любовь, предательство, равнодушие и ненависть. Как и с другими мужчинами, Дитрих не хотела иметь с Ремарком никаких серьёзных отношений, но стремилась цепко держать любовника в своих руках. В конце концов, он сбежал ― от неё и от своих опасных чувств ― в Нью-Йорк. И бедняга Моторин от своей Марлен сбегает в Симферополь. Сходство есть. Но у «нашей Марлен» нет опоры ― ни материальной, ни верного друга, ни у самой ― таланта актрисы…
Косметолог Лора на «оторву» никак не тянула. Живая, улыбчивая, с приподнятыми как бы в лёгком удивлении бровями, она в кабинете отточенными движениями прибирала рабочее место после очередной клиентки. Вошедших мужчин встретила спокойно, лишь расширив глаза и ещё чуть-чуть приподняв брови:
― Вы из полиции? Ищете Марлен?
Бутусов и Ямщиков представились.
Дела дрянь, если девушку ищут известный в городе врач-реаниматор и полковник полиции в отставке…
Они вышли из кабинета в пустой уютненький общий зал с окнами на улицу и расселись в клиентских креслах перед зеркалами. Бутусов ввёл Лору в курс дела и сразу накатил: если подруга не хочет стать фигуранткой уголовного дела, что будет означать конец её косметологическому бизнесу, она должна…
― Должна так должна. У самой наболело.
Лора подтвердила: Марлен покрасила волосы в зелёный цвет, стала красить губы чёрной помадой, обсыпаться блёстками.
― Теперь она если и Марлен Дитрих, то из ночного кошмара Ремарка, ― заключил полковник. ― Расскажи о последней встрече с Марлен.
С неделю тому назад Лора в общем зале обслуживала одну даму, самую крутую свою клиентку, когда Марлен приехала к ней немного раньше назначенного времени. Марлен ждала подругу, а клиентка через зеркало смотрела на зелёноволосую Марлен и шепотком спросила о ней. Ну Лора и рассказала: называет себя Марлен Дитрих, фактически развелась, живёт с бабушкой, родители ― в деревне и в город глаз не кажут, находится в поиске… не пойми кого. Не работает…
― Ну одним местом все девушки работают…
― Она в мужчинах, похоже, разочаровалась. Даже мне делала намёки по части интима. Не хочет нового мужика: то ли боится новой измены, то ли свою психику так бережёт, то ли сменила ориентацию ― пока не знаю, я не всегда её понимаю. Она сама себя вряд ли понимает. А что вас заинтересовало?
― Работу, может быть, ей предложу. Мордашка интересная… кого-то напоминает. Кисти, щиколотки… Передок слабоват, задок плоский, талии нет… ― тип мелкого пацана, но к такой куколке есть интерес…
― Она «иняз» закончила: романо-германскую группу.
― Тем более: с иностранцами на туристических кораблях ― в эскорте.
― Я же говорю: разонравились ей мужики.
― Юношеподобные девушки нравятся не обязательно мужикам.
― Ей работа не нужна: она в счёт развода цену хорошей полквартиры взяла. Раньше ко мне в салон редко ходила, а теперь ― не реже вас: денежки завелись…
― Зачем же ты постороннему человеку рассказала о деньгах подруги? ― перебил очень строго Бутусов. ― Теперь по уголовному делу пойдёшь не свидетелем, а подозреваемой ― наводчицей.
― Я ― наводчицей?! ― Лора от страха схватилась за живот. От приветливого спокойствия на её лице не осталось и следа. ― По уголовному делу?! С Марлен что-то случилось? Я не… Да я со всеми так болтаю! Профессиональная этика позволяет, даже требует: все мастера треплются с клиентами, салон ― это дамский клуб, руки и язык ― это наши доходы… Проболталась о деньгах ― ну бывает! ― не нарочно же! Я даже не знаю, чем та клиентка занимается.
― Ты у меня под наивную не коси! ― заорал полковник. Он вскочил и, нарочито громко топая и шевеля плечами, надвинулся на Лору и склонился над ней. ― Если вербует для работы в эскорте, значит, «мамка», «хозяйка» или «госпожа». «Задок», «передок», «куколка» ― домохозяйка такими словами разве оценивает незнакомую девушку? Выкладывай или вызываю наряд: задержим как вероятную соучастницу похищения или разбоя!
― Я ― разбоя?!. ― Лора опять схватилась за живот, нагнула голову и вжалась в кресло. ― Марлен… она в салон приехала марафетиться ― для кабака. Я согласилась сходить в ресторан с Марлен за её счёт ― скорее для подстраховки, но сидеть не до ночи. А за несколько дней до этого она пришла с поцарапанным лицом, с вырванным клоком волос ― видно, сошлась с девушкой и что-то не поделили…
― Знаю, что не парни царапают. Дальше! Я записываю допрос! Чтобы не врать у меня!
― Я её как могла залатала. Я ей и психотерапевт, и хирург… Марлен плакалась: нет жизни ― ни с мужчинами, ни с женщинами ничего у неё не выходит, «проживу старой девой». Ага, старой девой: даёт с пятнадцати лет, между ног ― проходной двор. Полшколы там побывало: давала и всем пацанам «по первому требованию», и физруку, и кавказцам, всегда и везде, чтобы только не ушли от неё к другой давалке. Собственница она: нужны любые знаки внимания от мужчин. Ради символической популярности готова на всё. Однажды подговаривала меня ночью пойти к проходной в воинскую часть…
― Зачем? ― спросил Ямщиков.
Ответил Бутусов, возвращаясь в своё кресло:
― У воинских частей иногда складываются своеобразные сообщества тёлок-нимфоманок или случайных искательниц приключений. Дежурный на КПП пропускает «желающих» в служебное помещение. Между ними даже вспыхивают заочные соревнования: какая за ночь больше солдат обслужит.
― Марлен, наверное, была в победительницах, ― продолжала Лора, немного оправившись от испуга. ― Гордой ходила, к нам, нормальным девчонкам, выказывала пренебрежение. Она упорная: если что втемяшится…
― Зарабатывала «одним местом»? ― спросил Бутусов.
― В школьные годы ― вряд ли. Она в восьмой класс к нам пришла, а я училась уже в выпускном ― в то время мы подружками не были. Знаю только: подарки принимала охотно, билеты брала на концерты и в театр, халявные застолья не пропускала, обносками не брезговала, приворовывала по мелочам, «крутилась», бегала за богатыми пацанами, но без особых успехов. Ни красоты у неё, ни тряпок, ни талантов ― только «одним местом» восполняла недостаток внимания. Летом компании местных парней возили её на теплоходе, жадные кавказцы ― на лодках за Волгу. Её, рассказывали, ещё в школе профессиональный сутенёр пытался прибрать ― к делу приставить, но компания дармоедов отстояла.
― А муж про «ошибки молодости» знал?
― Откуда! Они познакомились уже после окончания универа. Студенткой она дважды лечилась от какой-то заразы, та долго не проходила. Марлен тогда испугалась сильно: уколов она боится, от вида иглы в обморок падает. Я раз маникюрными ножницами уколола в палец ― ну бывает! ― так она прохныкала весь сеанс, как ребёнок капризный. Но, говорю, если в чём-то упрётся ― не сдвинешь, хоть убей.
― А сама убить может? ― Бутусов взял со столика маникюрные ножницы, ввёл два пальца в ушки и сделал устрашающее движение остриём себе в шею. ― Схватить ножичек ― и воткнуть.
― Вот уж нет: стала бы я с ней водиться…
― Дура?
― При мне ― нет: хладнокровная, расчётливая, совсем не дура.
― И не психопатка?
― Если куражится, то не верьте ― это напоказ: артистка всё-таки, они все со странностями. Марионетка она.
― И мании есть? ― спросил Ямщиков.
― Полно! Есть мания скорой смерти ― думает о похоронах, даже как-то разыгрывала свои похороны, меня заставляла участвовать. Да, очень любила расписывать собственные похороны. Как побьют ― случайные мужики её, бывало, били, ― так сразу о похоронах. Заказчиком и распорядителем похорон должен был выступать муж, Моторин. А вот реальных знакомых людей для специального траурного церемониала всегда не хватало.
― И в чём заключалась его специальность? ― заинтересовался Ямщиков и обратился к Бутусову. ― Улавливаешь сходство с нашим больным? Оба молодые совсем…
― А то! ― воскликнул Бутусов. ― Довели либералы: молодые думают о собственной смерти и похоронах. Ещё!
― Есть у неё пристрастие носить чужие имена, чужие платья, косить под чужой стиль, присваивать чужой стиль себе.
― Стиль Марлен Дитрих?
― Это в последние годы ― Дитрих. А в школе позиционировала себя Лолитой: требовала, чтобы пацаны её так звали: «наша Лолита», «моя Лолита»… А на Дитрих переключилась уже в универе, случайно: на первом курсе сломала щиколотку левой ноги, лежала в больнице одна, никто не навещал, передачек не носил, набрала в интернете «сломанная левая нога», выпала Марлен Дитрих ― и понеслось.
― Удачно копировала Дитрих? ― оставив протокольный тон, спросил Бутусов.
― Куда там! Мне кажется, Марлен женские персонажи как-то неправильно понимает. Дитрих же тоже для всех ― персонаж: жила в строго отведённом ей Голливудом стиле, как марионетка…
― Поясни, ― перебил Бутусов, ― о персонаже. Доктор Ямщиков собирает и систематизирует фенотипы больных, а у нас это называется «картотекой преступников».
Как оказалось, Лора, чтобы стабильно зарабатывать на Моториной, основательно изучила материалы по Дитрих. Когда артистка заявилась в Голливуд на съёмки фильма «Марокко», американские спецы произвели серьёзную коррекцию её внешности. Из пухленькой немочки с заурядной внешностью Дитрих преобразовали в таинственную утончённую «зовущую» женщину-вамп. Новый облик актрисы поразил даже тех, кто хорошо знал её прежде. Тонкие дуги взметнувшихся бровей, впалые ― благодаря наложению теней ― щёки, мерцающие глаза и крашенные под медь волосы придавали лицу Дитрих выражение загадочного и несколько скорбного любопытства. Получился новый для массового искусства образ хрупкой роковой женщины, страдающей от любви и заставляющей страдать других. Подруга Лоры считала, что образ Дитрих не исчерпал себя, а стиль её одежды может послужить и в двадцать первом веке.
― Какой именно стиль?
― Во-первых, мужской костюм. Во времена ранней Дитрих заявиться в мужской одежде было вызовом, жестом эмансипации…
― Ну как сегодня девицы «Фемен» заявляются в церковь с голыми сиськами.
― Сначала стилем Дитрих была жесть: фрак, шёлковый цилиндр и мужские туфли. Позже Дитрих отошла от жёсткого мужского стиля, но строгость линий в её манере одеваться сохранилась: костюмы застёгнуты на все пуговицы, без женских украшательств. Во все времена ― никаких открытых плеч, вырезов. Во-вторых, сигарета. На фотографиях Дитрих сигарета ― обязательная деталь. Артистке совсем не обязательно курить: сигарета выглядит столь выразительно, будто продолжает саму Дитрих. Очень удачный вызывающий образ! Он смущал зрителя двадцатого века своей двусмысленностью: женщина-вамп во фраке и с сигаретой. В-третьих, как писали раньше, «идеальная симметрия». Дитрих почти не снимали в профиль: у неё был немного вздёрнутый нос. Анфас она безупречна, её лицо выглядит абсолютно симметрично, а это не правило, а исключение.
А благодаря открытому «зовущему» взгляду создавалось впечатление вовлечённости и скорой близости. Все в один голос трубили: в откровенности лица Дитрих на фотоснимках отсутствует дистанция, и это притягивает зрителя. Лицо Дитрих на фото скульптурно ― это стоило больших трудов многим людям. Лицо получилось будто выточенным из слоновой кости, без малейшего изъяна, идеально правильным. Марлен Дитрих можно считать воплощённым в реальность искусством: физическое лицо абсолютно слилось с артистическим образом, и современники не могли разобрать, где заканчивается женщина и начинается образ. Моторина западала на факт, что многие черты артистического образа Дитрих стали знаковыми ― они и сегодня безошибочно ассоциируются всеми только с нею. Гитлер потребовал, чтобы Дитрих стала «лицом Третьего рейха», но та из Германии сбежала, приняла американское гражданство. Моторина хотела стать «лицом России»: лезла ко всем, предлагала себя в рекламе, но везде получала отказы.
― Сигарета в зубах, «симметрия», сексуальный вызов всему, что шевелится, особенные тряпки… ― сказал Бутусов, ни к кому не адресуясь. ― Я курящих баб терпеть не могу. Сигарета, мужское тряпьё ― и весь стиль?
― Стиль денди в женской одежде. Дендизм в современной моде уверенно держится в коллекциях Вивьен Вествуд и Нины Риччи.
― Таксист и показал: смахивает на хилого паренька, на школьника, подрабатывающего официантом. Ладно, стиль денди не исчерпал себя и…
Тогда продолжим его совершенствовать, охотно поддержала подругу Лора. Она отоварилась косметикой, которой пользовалась Дитрих, краской для волос и прочим. А сколько со времён Дитрих появилось новых материалов! Лора выдвинула ящик стола и достала три одинаковых по форме флакона с ароматами. Коллекция «Памяти Марлен Дитрих». «Моя Мечта», «Моя жизнь» и «Моё призвание». Три аромата от парфюмерного дома Gres. Марлен утверждала: эксцентричность и элегантность Дитрих, великой женщины, до сих пор вдохновляют парфюмеров.
― Запах запоминающийся, ― сказал Бутусов, обнюхав все три одинаковых по форме флакона. ― А из какого флакона ты душила Марлен в последний раз?
Лора, оседлав любимого конька, окончательно успокоившись, указала на аромат «Моя мечта» и с видимым удовольствием принялась комментировать: благородный классический аромат в традициях парижской «высокой парфюмерии». Девиз аромата ― «Умение быть личностью».
― Забираю пузырь как вещдок, ― сказал Бутусов, упрятывая флакон сначала в полиэтиленовый мешочек, потом ― в карман куртки. ― Придётся, может быть, розыскной собаке дать понюхать…
― А почему вы настаиваете, что Марлен ― марионетка? ― обратился к Лоре Ямщиков. ― Хотела присвоить чужой образ и прожить чужой жизнью?
Девушка бросилась в свой кабинет и мигом вернулась с куклой в руках, протянула её почему-то Бутусову:
― Вот это кто, по-вашему?
― Индианка или цыганка, ― взяв и повертев куклу, сказал полковник. ― Шоколадного цвета кожа, черноволосая, чернобровая, серебряные монеты в волосах, густо накрашенные яркие алые губы, вульгарная одежда из разноцветных лоскутов… Цыганка!
― Марлен Дитрих! ― торжествующе сказала Лора и победно расправила плечи. ― Фликерская кукла! Подарок Марлен мне на день рождения ― «от сердца оторвала».
― Эта кукла ― Дитрих?! ― Полковник даже качнулся вперёд, отвёл руку с куклой подальше от глаз, повертел так-сяк в сером свете от большого окна. ― Ну в глазах, допустим, сходство ещё какое-то есть. А где алебастровая блондинка, тонкие бровки, впалость щёк, стиль денди… ― вся пурга, которую ты нам сейчас несла?
Лора впервые, с удовлетворением, улыбнулась и принялась объяснять. Джозеф Штернберг, создатель образа Марлен Дитрих, нисколько не ценил аутентичность актёра и никогда не пытался сделать из актёра что-то «настоящее». Он придавал Марлен Дитрих форму «в плавильном цехе своей фантазии». Эта стилевая форма, кажущаяся такой ледяной, совершенной и завершённой, на самом деле для зрителя лишь драпирует чужие женские профили и отражает войну света и тени. Такова Дитрих по Штернбергу: лучисто серебряная или вручную заштрихованная тенями, перьями, ветвями, жалюзи, часто почти скульптурная, обездвиженная. Не случайно «в рукаве» Дитрих прячутся две куклы: японка и негритянка. Их актриса привезла из Берлина и таскала с собой, никогда не расставаясь. Дитрих брала кукол на все съёмки, превратила их в собственные копии ― в маленьких актрисок и требовала снимать их в кино. Они обретаются в комнате Ами Джоли, героини «Марокко», и тем как бы окукливают живых героев. Куклы Дитрих ― это удвоение её образа, маски тела, марионетки. Сама Дитрих отлично разбиралась в механизме проецирования и писала в своих мемуарах: «Штернберг мог всё ― сделать лицо прекрасным или деформировать его, он грезил превратить меня в идеальную марионетку». Уже в Голливуде один фотограф подхватил начинание: первым стал моделировать голову актрисы при помощи умелого освещения. Скульптурность лица и ног Дитрих скоро становится почти трёхмерной ― нет ни малейшего изъяна. Потом Макс Фактор визуально увеличил ей глаза с помощью тёмных теней, подчеркнул скулы, выделил губы и добавил блеска волосам с помощью золотой пыли. В конце концов Дитрих распадётся на два образа: будет сверхбелой на фотоснимках, на концертах, в тусовках и суперчёрной ― в двух фильмах других режиссёров, разоблачителей тайн фликерских мистерий. Именно в «Свидетеле обвинения» и «Печати зла» Дитрих предстаёт грошовой чернавкой, цыганкой, фокусницей. Сивиллой, на которую страшно смотреть…
― Неплохо излагаете, очень неплохо, ― сказал оценочным тоном Ямщиков. ― Сивиллой, хм…
― По первому образованию я культуролог.
Лора встала и сделала перед мужчинами изящный книксен.
― Вы, наверное, ещё и костюмерша? ― совсем уже заинтересовался Ямщиков, оглядывая Лору с головы до ног на запоминание. ― Сами костюмировали подругу?
― Давай, Сивилла, про одежду подруги, ― сказал Бутусов.
Лора рассказала, в какой одежде видела Марлен в последний раз.
― Вы считаете, Моторина не походит на образ Дитрих? ― спросил Ямщиков.
― Дитрих ― марионетка у кинобизнеса, Моторина ― марионетка у собственных маний. Она обожала играть роль роковой обольстительницы: в ресторанах, на спортивных площадках, на посиделках за Волгой ― везде. «Откуда это у тебя?» ― спрашиваю. Отвечает цитатой из мемуаров Дитрих: «Каждый, кто был соблазнён, хочет соблазнять сам». А её, она так считает, соблазнил в восьмом классе школьный физрук.
― Кончит под мостом, под рогожей с туберкулёзными цыганами люли, ― сказал Бутусов. ― Если сейчас жива.
― «Если жива»… ― вызывающе усмехнулась Лора. ― А не нужно было на рожон лезть, к мужикам незнакомым в машину садится, за Волгу мотаться с кавказцами ― море ей, вишь, по колено. После двух венерических вроде бы как отрезало: до самой свадьбы присмирела ― жених и клюнул на «скромную». А с прошлого года опять понеслось: принялась таскать меня по кабакам, по базам отдыха, квартирам ― в качестве «компаньонки».
― Почему не подруги? ― спросил Бутусов.
― Ей подруга без надобности, никогда подруг не держала.
И друзья ― случайные мужики. С кошельками все, правда, но уж очень грубые…
― Скорей брала тебя для страховки, ― сказал Бутусов. ― У нас не Европа: б… опасно колбаситься в одиночку.
― Но в ответственный момент, ― сказал Ямщиков, ― настоящая женщина-вамп действует в одиночку. Кандидатки в вампирши должны учиться действовать так же.
― Да какая она вамп! ― рассердилась Лора. ― Разыгрывает из себя роковую женщину, я её знаю! Неприятно с ней стало общаться, репутацию мне, считай, подмочила ― в салоне косятся. Я не раз собиралась с ней порвать, но… клиентками не разбрасываются, а теперь и платит вроде исправно. Разве что сама скоро отцепится…
― Хватит! ― прорычал Бутусов и уже протокольным тоном продолжил. ― Уколы эффективно применяются в пытках. Ты рассказала той мадам о боязни уколов у Марлен?
― Нет-нет, не рассказывала! И мадам просила меня не проболтаться Марлен о нашем разговоре.
― Как мадам звать? На какой машине приезжает?
Мадам приезжает на чёрном джипе. За рулём охранник. В тот вечер, а было это три дня тому назад, Лора с Марлен ходили в кабак. А в салоне Марлен попросила Лору придать ей «боевой окрас», потому что ей «кое с кем нужно серьёзно поговорить». Лоре назавтра вставать на работу, она из ресторана ушла рано, Марлен осталась. Лоре показалось, что какая-то девушка за ними наблюдала. Когда Лора уходила, Марлен тронулась в туалет, та девица встала и направилась за ней. Наутро Лора звонила Марлен: телефон отключен. «Ладно, объявится, мне работать надо…» Лора не знала наверное имени «мадам». Та явно нерусская, скорее с Кавказа, представлялась то Русланой, то Мадиной ― забывала, наверное, как назвалась раньше. Она записана на приём через два дня, приходите, узнайте сами.
― Нет у нас двух дней и даже двух часов, ― отрезал Бутусов. ― Вспоминай весь свой трёп с мадам ― он мог стоить жизни подруге!
― Весь… Да! Однажды, во время сеанса, она говорила по сотовому, скорее ругалась ― она лается! ― и я слышала, как мужской голос в трубке назвал её Ритой.
― Рита? ― Теперь Бутусов стал вспоминать. ― В каком-то уголовном деле мелькала эта нерусская Рита… Да, в деле с исчезновением человека. Дело закрыли…
Глава 16. Наложилось
Выспросив у Лоры всё и предупредив о неразглашении, мужчины направились в ресторан.
― Почему начинающая лесбиянка выбрала именно тот кабак? ― задался вопросом Бутусов и сам стал отвечать. ― Сделан в духе старого кабаре…
― А кабаре, ― развил мысль Ямщиков, ― как тип заведения, славится обманчивой, обольстительной, импровизационной атмосферой: она таит в себе опасности и болезненное предчувствие скорого краха иллюзий.
― Что Моториной сегодня и нужно ― как заказывали!
― Марлен Дитрих ― тип кастрирующей роковой женщины. В нашей картотеке фенотипов парочка-тройка таких фенотипов уже есть. Они пугают мужчину своими туалетами, светской опытностью, эротической ненасытностью ― в значительной степени напускной, конечно. Они упорно выставляют свою эротичность напоказ, но при этом живут исключительно для себя. Такой «фабрике грёз» наш больной нужен как отставной козы барабанщик. Вот они в первый же вечер и разбежались. А покушаться на его убийство ей нет резона: рисковать ослепительным будущим…
― Сколько, однако, хлопот о себе! Чем люди заняты! А ведь живём с Моториной в одном мире: земляки, можно сказать. Бедные мои жёны…
― Ключевые определения образа Дитрих из литературы: женщина-вамп, ангел, отличная хозяйка, алкоголичка, жадина, бисексуалка, свой парень, кулинарка, распутница, величайшая актриса, полная бездарность.
― Вот это разброс! Анкету на преступника хрен составишь.
― Я думаю, в зрительских массах образ Дитрих сформировался из видеоряда, с экрана, со сцены. Кто знал её ближе, те в конечном счёте начинали презирать её. Она это знала, поэтому часто меняла мужчин и не жила с мужем и дочкой. Моторина тоже не желала жить с мужем, но не хотела и разводиться, пока не найдёт новой кормушки.
― Ты, по ходу дела, набрал материал для воскрешения Моториной. Уже прикинул сюжет?
― Охотиться на образы больных вошло в привычку.
― Как у меня ― охотиться на преступников. Приехали…
Через несколько минут они уже смотрели записи с камер наблюдения. Охранник, бывший оперативник, сразу вспомнил зеленоволосую Моторину и джип, на котором её из кабака увезли. Просмотр записей выявлял такую хронологию событий. В вечер своего исчезновения Моторина пришла в ресторан с Лорой. Ничего особенного не происходило, через какое-то время Лора ушла. К Моториной тут же подошла девица, явно лесбиянка. «Это Штурман Жорж ― кликуха у шалавы такая», ― прокомментировал охранник. Когда Моторина отвернулась, Штурман Жорж что-то подсыпала ей в бокал. Приём коктейлей быстро поднял градус разговора за столиком.
― Неужели сцепятся? ― сказал Ямщиков. ― Весовые категории разные.
― В зале не сцепятся, ― с готовностью ответил охранник, ― у нас строго: до малой крови драться ходят в сортир, до большой ― в скверик напротив входа. В женском сортире тоже камера есть. О! Нарисовалась хозяйка джипа…
На экране возникла высокая грузная дама кавказской внешности, с усиками. Она прошла от входа и уселась за заказанным столиком. С ней была девушка ― сурового вида, плечистая, сильная, бритая, вся в татушках, подпоясанная ржавой лодочной цепью.
― Ещё одна Штурман Жорж? ― прорычал Бутусов. ― Не много ли на одну Самару? Увеличь изображение… Нет, это скорее рабыня при хозяйке, но тоже боец. Похоже, культуролог Лора всё же наводчица: смылась из кабака ― «завтра на работу вставать», ― и тут же явилась мадам. Мадам Рита расположилась рядом со столиком Моториной и принялась ей кивать и улыбаться. Рабыня отправилась к барной стойке и вскоре вернулась с одним коктейлем. Мадам кивнула ей на Моторину. Та вела себя беспокойно: ёрзала, сжималась, а потом вдруг вскочила и, раздвигая танцующих, ринулась в сторону туалетов. Штурман Жорж немедленно проследовала за ней. Около мужского туалета Моторина поймала за руку выходящего мужчину, прижалась к нему низом и что-то сказала. Тут подлетела Штурман Жорж, схватила девушку за волосы и потащила в женский туалет. Там, легко преодолев сопротивление, принялась её избивать.
― «Боевой окрас» артистке не помог, ― усмехнулся Бутусов. ― Бьёт в щадящем режиме.
― И вы не вмешиваетесь? ― обратился к охраннику Ямщиков.
― Они же не портят имущество ― только морды друг у друга. Как в зоопарке мартышки ― смотреть смешно. Лесбиянки, в отличие от пацанов, хорошо себя контролируют: знают черту, за которую в данном месте и в данное время переступать нельзя. Для серьёзной разборки они выходят на улицу, в скверик ― вот там, бывает, устраивают мочилово. Дуры устраивают междусобойчики, а умные разбираются по-другому: нанимают «бойца». А за что Штурман Жорж могла побить новоиспечённую? ― спросил Ямщиков.
― Новые тёлки, пока вписываются в среду лесбиянок, часто совершают ошибки. В их сообществе есть своя структура, своя иерархия, правила, как у мафии. Зелёная, скорее всего, нарушила правила, и её «заказали». И тогда Штурман Жорж её спровоцировала.
― Мафия лесбиянок ― это звучит, ― усмехнулся Бутусов. ― Ещё не хватало Самаре такого… Значит, чтобы оправдать мочилово, «заказанную» нужно было спровоцировать на очевидное всем преступление против сообщества. Штурман Жорж якобы приревновала Моторину к Лоре. Потом сыпанула порошок ― скорее всего, возбудитель. Зелёная пристала к парню у мужского туалета, а такое деяние у лесбиянок ― более чем достаточный повод для мочилова. Заказчик и все лесбиянки в кабаке, конечно, видели, какое наказание ожидает изменниц.
― За измену лесбиянки бьют жёстко, как в армии, ― сказал охранник. ― Для разборок часто нанимают Штурман Жорж. Она «боец» в их сообществе. Вряд ли она сама лесбиянка ― только косит.
Они прошли в туалет и там сцепились. Вослед Моториной и Штурман Жорж мадам Рита послала рабыню. Та, зайдя в туалет, сдёрнула с пояса цепь и, потрясая ею, сунула под нос Штурманше свой кулак. Этого жеста оказалось достаточно, чтобы та ретировалась в кабинку. С камеры, установленной на входе в кабак, было отчётливо видно, как рабыня усадила Моторину в джип ― без всякого сопротивления со стороны той, позвонила по сотовому: из кабака сразу вышла мадам, села в джип, и он уехал.
― Если бы зелёную не увезли, Штурман Жорж наваляла бы ей в скверике. Кстати, с неделю тому назад ― я грузил «перебравших» в такси ― видел, как в скверике Штурман Жорж таскает вашу зелёную по клумбе, прямо по собачьему дерьму на ледяной корке.
― А разнимать, конечно, не стал: имущество же не пострадало, ― хохотнул Бутусов.
― Серьёзных драк охрана не допускает, а то нас потом самих затаскают ― как свидетелей. А в тот раз их разнял один парень: вышел из кабака, увидел ― и бегом к ним. Штурманше приёмом заломил руку за спину и отшвырнул. Та отлетела, начала грозиться, но парень слушать не стал: поднял зелёную, отряхнул и усадил в очередное такси ― я как раз вызвал сразу несколько машин для отгрузки компании с дня рождения, и они отбыли. Парень вёл себя по-гусарски: ну просто кавалер со своей дамой возвращается с приёма в высшем обществе, хотя зелёная была одета как… подрабатывающий официантом школьник.
― Этот? ― Бутусов протянул охраннику гаджет с фотографиями Ивана Саблина.
― Он! Залётный: первый раз у нас был.
― А зелёная уже начала превращаться в завсегдатая, ― вслух принялся размышлять Бутусов. ― Вывод: больной не мог быть старым её кавалером ― познакомились только что. Наш больной, похоже, даже не впёр, что Моторина ― лесбиянка.
― Какой больной? ― встревожился охранник. ― Вы расследуете покушение на убийство?
― Скорее на самоубийство. Давай посмотрим тот вечер с мочиловом в скверике…
Когда охранник вывел картинку того вечера, Бутусов, многозначительно взглянув на Ямщикова, сказал:
― Вечер, когда больного нашли в подъезде. Значит, между падением больного и пропажей Моториной прошло четыре дня. Смотрим и записываем время поминутно…
― О! Явился ваш больной, ― охранник ткнул пальцем в экран.
В зал вошли Иван Саблин и Хмырь. Свободных мест за столиками не было; они сели у барной стойки и под явно неприятный для обоих разговор принялись выпивать. Вскоре Хмырь ушёл, на прощанье они не пожали друг другу руки. Саблин заказал ещё водки и огляделся. Девушек и женщин в зале было много. Видимо, дождавшись начала мелодии, он направился к столику, за которым сидели одни дамы, приглашать на танец. Приглашал одну, другую ― и ото всех получил отказ. Вернулся к стойке, выпил ещё. На следующей мелодии история с приглашениями повторилась. Саблин сильно занервничал, выпил ещё. Он резко двигался, мотал опущенной головой, стучал кулаком по стойке.
― Он точно не соображает, куда попал, ― уверенно сказал Бутусов. ― На каждую нормальную тёлку ― две лесбиянки, танцуют только друг с другом, целуются, гладят ― чего непонятно?
Освободились два соседних столика, и Саблина официант усадил за один из них, а к другому привёл вновь пришедших Моторину и Штурман Жорж. Те заказали себе коктейли, тянули из соломинок и, склонившись друг к другу головами, спокойно беседовали. Потом Штурман Жорж ушла из зала. «Пошла в курилку ― травкой побаловаться», ― сказал охранник. Саблин сидел напротив Моториной в трёх шагах. На увеличенной картинке стало видно: он в упор смотрел на девушку, а та «не замечала» его: «слушала музыку», копалась в сумочке, отворачивалась… Наконец Саблин резко встал, подошёл к Моториной, взял её за руку, пригласил, видимо, на танец, несильно потянул к себе. Она вырвала руку, отстранилась, что-то ему сказала.
― Послала, ― хмыкнул Бутусов. ― Ну, доктор, на какой вариант ставишь?
― Попробует силой вытащить.
― Я ставлю: будет разбираться, как с отказницей Паниной ― напором, криком, опрокинет стул, не исключаю даже битьё бокалов.
― Панина ― статусная невеста: с нею у больного слишком много связано ― и непосредственно, и через друзей. А эта ― чужая, непонятная, зелёные волосы, чёрные губы, мужской чёрный пиджак, галстук-бабочка, плоская как доска… ― чучело огородное…
― И я говорю: ни сиси, ни писи! ― энергично поддакнул охранник. ― В лесбиянки идут одни уродины. О! Штурман Жорж возвращается…
― Вот сейчас он и созрел, ― сказал Бутусов, обращаясь к Ямщикову. ― Вот твоё «наложилось». Теперь он в режиме «или ― или».
Ямщиков напряжённо смотрел на экран. Там Саблин, прижав руки к сердцу, склонился над Моториной и, тряся головой, что-то ей говорил, потом опять взял за руку и попытался уже с силой поднять её со стула.
― Да, начался абсурд, ― сказал Ямщиков. ― Когда «или ― или», случайный чужой человек может стать «своим». Пойдёт с ним Моторина или…
В этот момент подлетела Штурман Жорж и принялась оттирать Саблина от столика. Тот отмахнулся, потом ещё минуту-другую подёргался между дамами и вернулся на своё место. Штурман Жорж начала кричать на Моторину, потом ударила её по руке, по плечу, метила уже и в голову. Та уклонялась от ударов, отбивалась, потом вдруг резко встала и, подхватив сумочку, пересела за столик Саблина. Штурман Жорж кинулась к Моториной, но путь ей преградил Саблин. Нападающая отступила на шаг и что-то говорила им. Саблин полез в карман, вынул деньги.
― Наверное, потребовала расплатиться за коктейли, ― сказал Бутусов.
― Любовь любовью, а денежки врозь, ― с ненавистью сказал охранник. ― Посидят час, даже меньше, а потом четверть часа расплачиваются ― каждая за себя: припоминают, спорят, кто что и сколько выпил, съел… Крохоборы!
Когда через полчаса Саблин ушёл в туалет, Штурман Жорж метнулась к Моториной; они встали над столиком нос к носу, как петухи, и приготовились вцепиться друг в друга.
― Помню я сценку, ― сказал охранник, пальцем указывая на экран. ― Вон, видите, я из-за стойки нарисовался. Штурман Жорж, наверное, увидела меня ― и дала задний ход. Я парочку раз уже выставлял её за дверь ― дебош в зале хозяину не нужен.
Как только охранник исчез с экрана, Штурман Жорж схватила висящую на спинке стула сумочку Моториной и кинулась к выходу. Моторина ― вслед за ней. Через несколько минут вернулся Саблин. Сначала крутил головой, потом обошёл часть зала, двинулся в курилку, подходил к дамам, наверное, выспрашивал и вдруг кинулся в зал, быстро расплатился и, как ледокол раздвигая плечом танцующих, устремился к выходу. Через десять минут в зал вернулась Штурман Жорж. А через сорок три минуты пришла и Моторина ― уже со свежими следами побоев на лице.
― Поздним вечером от кабака до подъезда Саблина на «моторе» минут двенадцать хода, ― принялся считать Бутусов. ― Туда-обратно ― двадцать четыре, плюс минут десять, допустим, ждать «мотор» на обратную дорогу, значит, вся коллизия у подъезда и в подъезде заняла не больше девяти минут. Моторина вернулась в кабак выяснять отношения со Штурман Жорж. Не допив даже одного коктейля, пьяной быть она не могла.
Тут из зала в помещение зашёл второй охранник. Узнав, в чём дело, сообщил: с час тому назад о том джипе уже спрашивали четыре парня решительного вида. Они, как показалось охраннику, были в бронежилетах, знали номер машины и хорошо себе представляли, где её нужно искать…
― У нас помощники, ― сказал Ямщиков, направляясь к машине. ― Не придётся ОМОН вызывать. Нужно им позвонить…
― Мушкетёры, думаю, начали самостоятельную операцию, ― возразил Бутусов. Он уселся за руль и завозился с навигатором. ― Панина нас предупреждала: у мушкетёров схрон в Сокольих горах. Подняли из схрона оружие и, когда взяли след, отключили сотовые. Поступят, как в АТО на Кавказе: окружат, предложат сдаться, а нет ― дымовые гранаты и штурм. Опыт есть, двое ― спецназовцы. В распоряжении Коркина все записи уличных телекамер. Час ― это много: парни на взводе, могут девку не довести до кутузки ― прикончат на месте как террористку… Нужно успеть.
Бутусов резко тронул машину.
― А куда? ― шатнулся Ямщиков, не успев пристегнуться.
― Найдём мстителей по их тачкам, ― полковник кивнул на монитор. ― На их машины я установил маячки ― вчера ночью, на стоянке у Центра. Вот они, родные, на двух машинах ― стоят на просеках у берега Волги. Знаю я те места: в девяностые накрывал там притоны и подпольное казино. Съезжались туда из других городов, но в основном ― из-за рубежа: поиграть в картишки, в рулетку. Летом арендовали яхту или катера ― и на острова. Простор! И самые красивые девушки России у ног…
Пока спускались к Волге, Бутусов размышлял вслух. В борделе наверняка охрана с оружием, его крышуют, вполне можем встретиться там со «своими», даже в форме. Мадам Рита скорее всего садистка, со своим пыточным подземельем. Тёрки на берегу Волги всегда чреваты: вывезут на фарватер реки человечка в мешке с двумя кирпичами и сбросят ― останки всплывут через несколько лет где-нибудь у Балаковской плотины. Обшаровская Марлен сейчас беззащитна: родители прокляли, от мужа ушла, новых друзей не обрела, все нещадно бьют, единственная подруга ― и та сдала «мамке» в рабство. Ушлые люди быстро подбирают незащищённого человека, если его можно использовать как товар. Особенно зверствуют кавказцы. Накачают наркотиками и увезут в южные страны ― продадут в проститутки, в рабы на плантацию, в «солдаты удачи», в моряки незарегистрированного торгового флота, в шахтёры, в мойщики золота… Унавоживают неприкаянными русскими людьми свои бесплодные горы и пустыни. В любом городе сотни вражеских глаз отслеживают неблагополучных людей: оценивают их на предмет возможности бесплатной эксплуатации, отъёма имущества и свободы…
― Системы в государстве нет, ― заключил Бутусов свои размышления. ― Защита и спасение людей в России лежит на плечах энтузиастов: на тебе, на мне, на бригаде, которая ночью, в шторм, встала и помчалась спасать, на Коркине…
― «Мы с тобой одной крови». ― Ямщиков с чувством пожал протянутую Бутусовым руку. ― Ещё побегаем!
― Перед сотней прицелов долго не пробегаешь.
― Но стараться надо.
― Надо!
Скоро Бутусов отыскал замаскированные машины. Мушкетёры обложили имение ― большой трёхэтажный дом и постройки, расположенное на склоне в первой линии от кромки воды. Коркин в бронежилете, с биноклем и ручным громкоговорителем в руках доложил обстановку: два вооружённых охранника, в конюшне ещё один мужик, на вид ― без оружия, наверное, конюх. Три камеры наблюдения, смотрят в сторону Волги и на единственную прибрежную дорогу, но на территорию усадьбы незамеченными можно спуститься с горы ― там камеры нет. Собак тоже нет: уверенность в безнаказанности налицо. От подножия горы, на которой стоит усадьба, к воде пробит тоннель. В этом проходе к Волге мушкетёры затопили лежавшую на берегу гребную «Казанку-6»: так что, если у осаждённых в пещере горы на случай шухера стоят эвакуационные катера, они не смогут выйти в реку.
― А теперь: как вы нас нашли? ― с нервностью в голосе Коркин обратился к Бутусову.
Тот снял маячки с машин мушкетёров.
― Не доверяете?! ― закипел Портос. ― Следили?! А мы уже считали вас почти своими.
― Я поставил маяки и на машину доктора Ямщикова, и на Панину… в общем на тачки всех заинтересованных в спасении больного лиц, ― спокойно сказал Бутусов. ― Это обычная процедура в случаях, когда все ищут одного человека, ― вы должны понимать. Пока вы были мне не нужны, я не следил. Слово офицера: место вашего оружейного схрона в Сокольих горах я не знаю. Теперь без обид?
― Без обид.
Договорились о времени начала штурма и разделились: мушкетёры блокировали имение, а Бутусов и Ямщиков залезли на гору и оттуда ― по наклоненному дереву ― спрыгнули на задний двор. Решили, что пленница скорее всего должна быть в подвале дома. У подвала были окна с колодцами. Вместо железных решёток на окнах стояли внешние железные жалюзи, они оказались распахнутыми. Пробрались ближе. Вдруг одно из окон распахнулось.
― И остальные открой! ― сказал властный женский голос с кавказским акцентом. Бутусов молниеносно вытащил из внутреннего кармана дистанционный микрофон и направил его в оконный колодец. ― Запашок! В общественных сортирах так уже не воняет! Включи вытяжку. Шланг возьми, обмой кобылу. Ещё не в стойле, а уже обоссалась, тварь. От страха, что ли? Бздишь?! Зауважала свою госпожу?! Хватит лить: весь пол залила, дурища! Потом обе вылижете пол досуха. Языками погаными ― досуха! Даю тебе, Чмоня, полчаса: доложишь наверх.
― А как, госпожа, вылижем, готовить её к процедуре? ― сказал молодой женский голос.
― А то ты не знаешь! Позовёшь остальных ― и закрепите кобылу в станке. Через час приедет инженер, я вызвала. Инженер будет ставить ей клеймо на жопе и на груди, как тебе. Клеймо для кобылы готово ― кузнец привёз. Нет, какая из зассыхи кобыла. Пони! Для начала, тварь, послужишь мне в качестве пони! Сделаем моей пони модельную стрижку. По бокам головы ― вот так ― волосы выбреем начисто, оставим только по центру ирокез: будет гривой. Грива зелёная… Нет, слишком легкомысленный цвет. Гости у нас ― серьёзные господа из Европы. Немецкий язык знаешь? Чудесно: будешь ржать по-немецки! Что мотаешь башкой?! Немецкая артистка должна уметь ржать по-немецки! Артистка-лошадка ― а ты можешь сделать завидную карьеру в евроборделе. Отработаешь, заслужишь ― я тебя в Европу продам, в Нидерланды. Голландцы провинившихся русских шлюх топят в каналах обезглавленными ― и без всяких мешков. Как бы ей ещё вытянуть морду лица… Сделать лошадиную улыбку, ноздри расширить, поставить уши торчком… Отстаёт наука от запросов общества: я бы прямо сейчас заказала пластическому хирургу сделать из позорной зассыхи премиленькую человеко-лошадку, чтобы жевала в своё удовольствие сено в яслях, овёс из мешка и кивала в знак благодарности за поднесённое яблочко, за морковку… Открой пасть! Вырвать ей всю эту мелочь и вставить настоящие лошадиные зубы!
― Мне уже вырвали четыре нижних зуба, ― раздался испуганный женский голос.
― Зачем?
― Чтобы удлинить лицо и достичь впалости щёк, как у…
― Заткнись! Удлинить лицо… как у лошадки? Ты что, была уже в рабстве?!
― Нет.
― Заткнись! Разговаривать запрещено! В последний раз повторяю: лошади могут только ржать и кивать головой, если понимают, о чём их спрашивают и что приказывают. Если я разрешу тебе говорить, другое дело. А без разрешения ― никаких разговоров: только ржать, мотать головой и хвостом и стучать копытами ― всё! Если ещё раз услышу человеческую речь из поганого рта, отрежу язык. Будешь служить мне как пони. Мне и любому гостю, кого я прикажу тебе катать. Инженер подберёт тебе сбрую, уздечку и шоры. Запряжём в повозку или будешь катать гостей на спине. Сёдла у нас импортные, дорогие ― глаз не оторвёшь. Сама будешь голой: в конюшне тепло, а зимой накроем попоной. Не ссы: в манеже под мужиком в шесть пудов не замёрзнешь. На ногах и руках будешь носить специальные ботинки, на вид они ― копыта лошадок. Как клеймо заживёт, начнёшь таскать железо в спортзале ― нужно поднакачаться, а то через месяц сдохнешь от нагрузок и пойдёшь у меня в расход. Сбежать отсюда даже не думай! Родные и близкие тебя искать не будут ― справки я навела. Сама, коза, виновата: допрыгалась ― ты теперь никому не нужна, кроме меня. На ночь крепко привяжем; конюшня снаружи запирается на замок ― выбраться из неё невозможно. Теперь ― вылизать пол насухо!
Послышались удаляющиеся шаги, грохнула массивная дверь.
― Да не дрожи ты так! Привыкнешь. Главное, перестань сопротивляться, а то покалечат или… даже убьют.
― Ты что говоришь!
― Волга в тридцати шагах. На лодке ночью на фарватер выплывут и утопят. Или продадут в турецкий бордель. Лижи!
― Каменный пол?!
― Лижи, а то обеих побьют. В любой миг мадам камеры включит и увидит, что мы болтаем.
Бутусов вынул зеркальце с ручкой, нагнулся и направил его в окно. Потом кивнул Ямщикову и прошептал:
― Вверх не смотрят.
Они заглянули в окно. В хорошо освещённом подвальном помещении две голые девушки, выставив зады, ползали на коленях и вылизывали пол. Помещение представляло собой нечто среднее между сельской кузней, пыточной у папских инквизиторов и лабораторией средневекового алхимика. Посреди стоял деревянный станок устрашающего вида ― с отверстиями для головы, рук и ног, со свисающими кожаными ремнями и пеньковыми верёвками. Рядом ― большой стол, покрытый листом железа и заваленный современными пыточными аксессуарами. Здесь были ремни, наручники, воронки, тазики и сосуды, железные и кожаные маски, искусственные фаллосы разных размеров и форм, комплекты крючков и иголок, стальные аллигаторы, клипсы, грузы. На стенах в декоративном порядке висели цепи, канаты, верёвки, хлысты разного размера, кучерский кнут и красивая семихвостая плеть. На небольшом столике подле станка находились аптечки, пузырьки, бинты, стеклянные сосуды с разноцветными жидкостями, воронки, шланги, наборы скальпелей, зажимов и пинцетов. Рядом стоял штатив с огромной резиновой грелкой и шлангами. К ножке стола прижимался мусорный бак, из которого свисали концы запачканных кровью и зелёнкой бинтов. В одном из углов стояла наковальня и печь с инструментом: молотом, молотками, щипцами, у самого зева печи лежали цепи, проволока разного сечения, листовое железо, арматура… Рядом стояла газовая горелка. В другом углу располагались осветительные приборы, используемые при фото- и телесъёмках.
― С моего последнего визита в подобный вертеп арсенал значительно увеличился, ― прошептал Бутусов. ― Совершенствуется не только вооружение российской армии…
― Да, по оснащённости ― конкурент нашего Центра, ― прошептал Ямщиков, разглядывая обстановку подвала. ― Садизм стал почтенным занятием, отраслью науки ― есть чему посвятить свою жизнь. Маркиз де Сад тоже учёный был, но сильно устарел…
― Не скучают имущие европейцы. А народишку русского для их развлечения хватит…
Одна девушка была наголо бритой, другая ― с зелёной гривой. Бутусов вынул фотокарточку Марлен и кивнул на неё Ямщикову:
― Та ― без клейма на заднице ― наша. Две камеры: у станка ― для подробностей «клубнички» и на стене ― для общего плана. Снимают «кино» и продают…
― А клеймо ставить ― больно? ― спросила Марлен, оторвавшись от пола.
― Запах своей шкуры запомнишь надолго. Будет небольшой ожог. Одно клеймо ― на грудь, как у меня, смотри…
Девушка выпрямилась на коленях и выставила грудь вперёд. На левой груди обозначилось чёрное клеймо в форме круга, в центре красовалась готические буквы MR, а вокруг была надпись: «Рабыня навек».
― Когда будут прижигать, ты, главное, не дёргайся, а то клеймо смажется и придётся его ставить на новом месте.
― А что значат буквы?
― Мадам Рита.
― Посажу гадину, ― прошептал Бутусов. Он взглянул на часы, убрал свою технику и стал примеряться, как спрыгнуть в подвал. ― Сейчас начнут…
В тот же миг раздался в мегафон голос:
― Я майор полиции Коркин! Пацаны, сдавайтесь! Отход на катере закрыт! Попытаетесь выскочить на машинах через ворота, получите гранату. Вы видите наше вооружение? Можете нечаянно пострадать! К вам может прилететь «Муха».
― Я уже прицеливаюсь! ― крикнул Портос.
― Коркин, капитан! ― раздался голос у ворот. ― Я тебя узнал! Встречались в командировке на Кавказ. Ты же мент, служишь: какая может быть «Муха»?
― Я майор со вчерашнего дня!
― Зауважал! Что надо, майор?
― Одна из шлюх покушалась на нашего друга. Он в реанимации, уже неделю в отключке! Шансов выжить немного! Мы сильно обиделись! Отсюда и прилетит «Муха»!
― Понял! Шлюха или рабыня могла покушаться только по приказу. Вам скорее нужна хозяйка.
― Если вы не замешаны в крови, сдавайтесь!
― Охрана в крови не замешана: наше дело ― периметр, нас даже в дом не пускают. В крови ― инженер, но его сейчас здесь нет. Сдаёмся! Дайте нам уйти!
― Вяжите хозяйку, шлюх, всех ― и дадим уйти! Приказ понятен?
― Так точно, майор! Пять минут!
― Пять! Потом без разговоров ― гранаты и штурм!
― Да какой штурм, товарищ майор! ― раздался у ворот другой мужской голос. ― Мы вам ещё ящик водки поставим, что закончили наш позор! Мы здесь служим всего месяц ― а тошнит! Открываю: вместе шлюх повяжем. Давайте быстрее: наверняка мадам сейчас вызывает «крышу» ― через двадцать минут бригада будет здесь…
Раздался шум открывающихся ворот.
― Тоже вышло, как в «Маугли», ― улыбнулся Ямщиков. ― «Мы с тобой одной крови»… Ну, штурм?
Они спрыгнули в подвал и схватили визжащих девиц. Потом, уже во дворе усадьбы, Бутусов, давя авторитетом, убедил Коркина и мушкетёров, что будет лучше, если именно он и Ямщиков допросят Моторину. Мушкетёры, с трудом выходя из предбоевого напряжения, согласились. Они заткнули кричащую и грозящую мадам Риту, отпустили охранников. Четырём рабыням, пожелавшим покинуть бордель, Арамис дал карманных денег и на пролетавшем мимо катере из бригады «полянских калымщиков» отправил к пристани. Не все пожелали покинуть бордель. Три очень красивые студентки, проституцией зарабатывающие себе на обучение в вузе и на жизнь, заявили: наше место здесь. У них контракт, они не рабыни, а вольнонаёмные, претензий к мадам Рите не имеют, а если их сейчас заметут, то они ничего не видели, ничего не знают, наркоту не принимали, отдыхали в гостях…
Когда мушкетёры закинули бронежилеты и оружие в багажник и Портос отбыл с «железом», Коркин включил телефон и вызвал опергруппу и следователя.
Одетая в чужие тряпки Марлен заходилась в истерике, отказывалась садиться в машину Бутусова и ехать в судмедэкспертизу ― фиксировать побои. Удостоверения полицейских её не успокоили.
― Ты хочешь оказаться в тюрьме? ― попытался зайти с другой стороны Ямщиков. ― Тебе устроят фотосессию в судмедэкпертизе, фотки приложат к уголовному делу. А ещё раньше набегут корреспонденты ― они уже едут! От телецентра на Советской Армии сюда десять минут ходу ― снимут тебя во всём великолепии. Хочешь сейчас фотосессию от репортёров? Через пятнадцать минут выложат в интернете. Давай, ещё мы тебя к сессии подготовим, хочешь?
В подвале перебинтуем тебе грудь, как затягивалась Дитрих перед выступлением, вызовем тебе рвоту, как практиковала Дитрих после еды, лошадиные зубы вставим, обреем. Хочешь увидеть себя такой: перебинтованной грязными бинтами, обоссанной, в блевотине, с ирокезом зелёным?
― Я должна быть всегда совершенной! У меня харизма!
― С такой харизмой на морде, ― загремел Бутусов, крепко держа Марлен за руку, ― с пирсингом на сосках, на пупке и внизу о карьере актрисы можешь забыть!
― Много вы понимаете в карьере современной актрисы!
― Разве порядочной девушке ради карьеры легко вот так сразу стать публичной девкой? ― попробовал взять наставительный тон Бутусов. ― Были и порядочные актрисы: популярна не только твоя Дитрих. Людмила Гурченко…
― Ага, шесть раз замуж успела сбегать ваша «порядочная». Из любой внешности можно создать шикарный стиль ― найти только мастера. У меня задатки лучше, чем у Дитрих! Если есть оригинальный стиль, не важно, как ты поёшь и танцуешь. Я тоже так могу! Меня здесь били, клеймо хотели поставить, меня калёным железом жгли, как коня. Я Рите такой иск вчиню, всю жизнь будет расплачиваться. У меня свидетели есть…
― Вот дурища-то! ― закричал Бутусов и пригнул Моторину к земле. ― Кто твои свидетели?! Конченые проститутки? Их отсюда калёным железом не выгонишь. Они хозяйку не сдадут, иначе ― знают ― покровители их накажут. Мешок с двумя кирпичами и в воду ― это в Самаре уже ритуал для непослушных проституток. А не захотят «мочить», так тебя саму обвинят в ста смертных грехах. Объявят тебя воровкой, наркоманкой, содержательницей притона, торговкой человеческими органами, самой выставят встречные гражданские иски! Рита уже успела позвонить своей «крыше». Бойцы прилетят раньше наших полицаев, и эти бойцы ― не Штурман Жорж: не успеешь добежать до канадской границы. Теперь ты под прицелом!
― Границ теперь нет: куда хочу, туда и убегу от вас всех. Я из семьи, у меня муж есть! А рабыни все ― бывшие детдомовские: куда им бежать?
― Остальные детдомовские?
― Рита директрисам детдомов заказывает девушек-выпускниц. Добрая такая директриса говорит своей выпускнице: хочешь, милая, работу с хорошей зарплатой? Кто не хочет! Все себя продают, как могут. А чего не продаться? Рабство похоже на игру для взрослых. Я читала «Хижину дяди Тома»: в Америке большинство негров на плантациях не хотели отмены рабства ― привыкли, что ими командуют. И вообще не в каждом борделе есть своя конюшня на пять лошадей. Я рассчитывала здесь научиться ездить верхом: гарцевать в униформе с хлыстом ― это так элегантно…
― На конюшне тебя истязали, а не учили гарцевать! ― заорал Бутусов на вжатую в плечи зелёную голову. ― Реальная, биологическая Дитрих никому была не нужна: все искали только созданный Голливудом образ. Марлен Дитрих ― секс-идол, а секс-идол не имеет права на жизнь обыкновенной женщины.
― А я и не хочу жизни обыкновенной женщины. Я хочу, как Марлен Дитрих, иметь яркую сексуальность, но не иметь пола. Мне нужен всего один успешный фильм ― и я на коне…
― Ты, Моторина, просто не доживёшь до секс-идола ― это тебе полковник милиции говорит! Я на своём веку десятки таких фантазёрш перевидал ― в городском морге. Тебе разве мало: уже угодила в бордель!
― Страна без борделей ― что дом без ванной комнаты.
― Самара ― не Голливуд, ― сказал Ямщиков, закончив телефонный разговор с Центром реанимации. ― В городе нет для тебя Пигмалиона-продюсера.
― У меня муж есть! И подруга! Я…
― Не сочиняй! ― опять закричал Бутусов, ещё ниже пригибая Марлен к земле. ― С мужем ты развелась, взяла с него отступные, так что о муже забудь: он удирает от тебя в Симферополь. А подруга тебя продала: видела счёт в своей книжке?
― В какой книжке?
― Ещё не показали? На проданную в рабство проститутку хозяйка заводит расчётную книжку. В неё заносятся все расходы на приобретение и содержание: комиссионные ― Лоре, которая навела на тебя «мамку» Риту; родителям и прочей родне ― чтобы не искали; амортизация катеров, аренда яхты, твоё гарцевание на лошади, секс-игрушки, вагинальные кремы, анальные свечи, тряпки, ржавая цепь на поясе, жратва с выпивкой ― накачивать будут до беспамятства, еженедельные медосмотры, «учебные фильмы», наркота, электроэнергия, бензин, газ… ― всё! До старости пришлось бы ноги раздвигать, а вот пенсия проституткам не положена.
― Лора… гадина ― я с ней посчитаюсь. А вас я сюда не вызывала!
― Ты только концерт нам не устраивай! Позировать и раздавать автографы здесь некому!..
Моторина ещё с минуту препиралась, и даже уже в конце с капризными нотками в голосе ― что «не одета, надо привести себя в порядок, где моя сумочка…», ― и наконец ― в чувствительных толчках Бутусова ― позволила усадить себя на заднее сиденье машины.
Когда тронулись со двора, Ямщиков обернулся к девушке:
― Вы знали Ивана Саблина?
― Нет. Кто это?
― Тот молодой человек, который отбил вас у Штурман Жорж в скверике у ресторана.
― А-а-а… Я даже имени его не помню… С какой стати! За эти дни столько всего произошло!..
― Давай рассказывай! ― перебил Бутусов. ― Иначе вместо судмедэксперта отвезу тебя в каталажку ― из одной тюрьмы попадёшь в другую. Что произошло между вами в подъезде?
― В подъезде? Что произошло в подъезде… Я хотела поскорей вернуться в кабак ― задать Штурман Жорж хорошую трёпку…
― Отвечай под запись! ― закричал Бутусов, приостанавливая машину. ― Соврёшь ― сядешь в тюрьму! Ну! Или надеваю наручники и везу в женскую колонию! Там таких Рит ― толпы: ждут свежих актрисок в безвозмездное пользование!
― Не надо в колонию! Сейчас… Что там, в подъезде… Коктейли плохо на меня действуют… Правда, лучше пить водку: Дитрих водочку уважала…
Бутусов остановил машину и тоже обернулся к Моториной.
С большим трудом из неё вытянули следующее. Она не хотела идти в квартиру Саблина. Но тот силком потащил её вверх по лестнице. Он был возбуждён, пьян и не слушал её возражений. Наконец, очутившись на лестничной площадке перед дверью квартиры, Иван вдруг сказал: если пойдёшь со мной, женюсь, а сейчас представлю родителям и сестре как невесту.
― Ну я и сказала ему: ага, невеста ― поцарапанная морда и брюки в собачьем дерьме! Не нужен ты мне, сказала. Лесбиянка я, не понял, что ли? Замужем я! Да, вышло как-то глупо: лесбиянка ― и замужем… Он не ожидал, отпрянул, я вырвалась и побежала вниз.
― Ещё что?
― Ещё оглянулась раз, крикнула: «Пропадите вы все пропадом, суки и кобели!» Потом только бежала.
― Лесбиянка ― и замужем, ― зарычал Бутусов, шевеля желваками. ― От такого крышу могло снести… А что он?
― Ключами в дверях, кажется, стал ковырять. Потом орал в пролёт: «Стой! Не выходи из подъезда! Не выходи!» Ага, не выходи! Догонит и стукнет чем-нибудь, бешеный! Мало мне от Штурман Жорж в тот вечер досталось: половину волос вырвала.
― Он гнался за тобой?
― Откуда я знаю! Бежала вниз сломя голову ― в ушах стучало. Он вроде кричал: «Не выходи! Не выходи, сказал!»
― Ты выбежала из подъезда, а он?
― Что он! Успокоился, наверное. Какое мне дело?! Думает, если спас от пары царапин, то может увезти на квартиру и пользовать? А может, у него в квартире целая команда: пьют, смотрят футбол и ждут с улицы дуру. Школьницей доводилось так попадать ― с меня хватит. Из подъезда он не выходил ― я одним глазом следила. А минут через десять поймала «мотор» и вернулась в кабак.
― В подъезде ещё кто-нибудь был?
― Никого. Там и спрятаться негде, свет горел, был бы кто ― я б заметила. Осмотрела специально: думала сначала ― полезет трахать в подъезде.
Ямщиков и Бутусов одновременно выдохнули и, опустив плечи, молча глядели друг на друга. Моторина сразу успокоилась. Она вся зашевелилась, стала прихорашиваться и, наконец, приняв позу, навела на лицо выражение под образ фатальной женщины ― неприступной, страстной и аморальной.
― Включился мотив падающего парня с той картины в комнате больного, ― на экране монитора появился Кусков. ― Слишком часто, наверное, больной на эту картинку смотрел ― образ падающего с небоскрёба парня устойчиво зафиксировался, когда наложилось, тот мотив первым и всплыл.
― Падающего?! ― расплылась в самодовольной улыбке Моторина. ― Это ваш, как его, Шпагин, что ли, упал? В лестничный пролёт? Это он меня так догонял?! Разбился не насмерть?
― Если выживет, останется инвалидом, ― тихо сказал Ямщиков и взглянул на ручные часы. ― Многое решится через десять минут…
― Да, скоро начнём, ― сказал Кусков. ― Линней вернулся из Новосибирска, одобрил наше кино и взял руководство на себя.
― Вау, супер! Молодой инвалид в колясочке! Буду его всем показывать: мой отчаявшийся поклонник! Часок всего поматросила ― и бросила, а эффект ― полюбуйтесь и рукоплещите! ― Голос Марлен превратился в оружие соблазнения: одну фразу она произносила с нежностью, другую ― хрипло, третью ― громко и резко, с обрывом в конце. ― Зря вы, строгий полковник, говорите, что я ничего не стою. У меня гипнотический дар привораживать к себе поклонников обоих полов. Через маску неприступности из меня лавой течёт обольстительность и сексуальность. Я скоро стану в Самаре самым стильным мужчиной! Все мужчины и женщины, все геи и лесбиянки будут мои! Вы оба будете бегать за мной, автографы брать! Вам ― дам, я благодарная личность. Убедились ― женщины умнее мужчин? Вряд ли найдётся женщина, которая была бы без ума от мужчины только из-за его красивых ног. Отказала дать ― и поклонник сиганул в пролёт! А были знакомы всего час-полтора. И в каких неподходящих обстоятельствах!
― В тот вечер, ― начал Ямщиков глухо, ― так сложилось, вы были ему очень нужны. Вы оказались единственной, кто ещё мог…
― Конечно, единственной! Ну засадил бы своей единственной прямо в подъезде! По-быстрому я бы, может быть, и дала. Нет, вы, господа, не думайте: я не шлюха, я совершенная личность! Но всё совершенство моё только для человека, в которого сама я влюблена. Просто в тот вечер мне нужно было вернуться скорее в кабак, чтобы Штурман Жорж не ушла от возмездия.
― Вы не допускаете, что в эти полтора неподходящих часа он мог в вас влюбиться? ― сказал Ямщиков ещё глуше. ― Такое случается со спасателями и спасёнными…
― Ещё как случается! Я тоже часто влюбляюсь: в мужчину, в женщину, в собачку, в песню, в стиль, даже в костёр на волжском берегу ― влюбляюсь с одинаковой силой. Настоящая любовь ― это прекрасно! Не нужно только становиться рабой любви. Полюбил-разлюбил ― это естественно. Любовь к другому ― чувство временное, а в первую очередь нужно любить себя ― постоянно. Если я сказала, что небо зелёное, то так оно и есть! Ну, чем я ни Мутти Вторая? Спеть вам «Приди ко мне» на немецком? Курить есть?
― Замолчи: от тебя пахнет мочой…
Зазвонил телефон Бутусова. Тот включил громкую связь и кивнул Ямщикову: «Коркин».
― Нас, можно сказать, повязали, ― доложил Коркин. ― Свои. Хорошо, успели скинуть железо…
― Меня за время службы раз двадцать вязали ― и тоже свои, ― спокойно, с профессиональным любопытством, ответил Бутусов. ― Что предъявляют?
― Нарушение неприкосновенных прав частной собственности: не имели права без разрешения собственника проникать на территорию.
― Ты же был при исполнении.
― Увы, я сегодня в отгуле. И всего лишь майор. «Крыша» оказалась повыше.
― Сейчас молчите, а как привезут, скажешь: «Спецоперация ФСБ» и больше ни слова. Пусть звонят в «контору». Через час за вами приедут, освободят. Я тоже буду.
― Понял. А что Ванькина тёлка?
― Криминала нет.
― А что есть?
― Есть местная Марлен Дитрих с неизлечимой этической глухотой, ― сказал Ямщиков. ― Но не миледи де Винтер.
― Понял: Атос без работы. Конец связи.
― Заткнись! ― крикнул Бутусов в лицо Марлен, намеревавшейся возразить на «этическую глухоту». ― Значит, сейчас уголовного дела не будет… Ладно, отставим на время… Тогда что нам теперь делать с этой?
― Вы не имеете права меня задерживать! Вы не при исполнении! Чем вы лучше мадам Риты? Отпустите меня! Хотите, я паду пред вами на колени?
― Беги, ― сказал Бутусов и отжал кнопку открывания на двери, у которой сидела Марлен. ― Теперь ты, дурочка, под прицелом: мадам Рита будет тебя искать на предмет ― что ты нам успела рассказать о борделе. Рекомендую скрыться из города, а лучше из страны ― границ же нет. Бегом марш!
― Я пахну мочой ― отвезите хотя бы к бабке. Куда я такая ― в транспорт. Вы же настоящий полковник!
― Бегом марш или…
Бутусов открыл дверь с явным намерением вышвырнуть Марлен из машины. Та не стала ждать: с проклятьями и угрозами вылезла и поспешила прочь.
Новеллы из романа «Свежий мемуар на злобу дня»
Мемуар № 2
Новелла о генерале Патроне
Еду в контору за ЦУ, невольно думаю про своего Патрона. Редкий, однако же, тип: воинствующий славянский патриот! Русский почвенник новой формации! К родной земле пуповиной намертво прирос и бесноватости обеих наших столиц избежал. Он почётный гражданин Непроймёнской стороны. От Патрона, бывало, ждёшь даже: вот встанет сей миг и с именным Макаровым уйдёт в благородные разбойники ― богатства у неправильных олигархов отбирать в пользу униженных и оскорблённых. Высоким штилем утверждаю: мой Патрон ― кость и кровь русской нации! Смельчак и умелец, радушный хлебосол и коренник в русской тройке, летящей в разудалом трезвоне бубенцов… ― толстовский, одним словом, Жилин, на коих только Россия и держится, кроме газа и нефти, само собой. А на внешность ― седовласый гусар, тяжеловатый теперь уже немного корпус с квадратными плечами, сразу всем внушающий почтение нос, грозная бровь, глаза, само-собой, стальные, но с угадываемой добринкой в глубине, три морщины на лбу продольные и две, над носом, лежат поперёк. Патрон ― верховод от самого рожденья: при встрече с ним, я замечал, невольно орудие справедливого наказанья ищешь в его тренированной руке…
В армии, прикидываясь бездумным служакой, Патрон возбуждал в среде отцов-командиров энергию исторической памяти, дабы смести ею всех Мазеп, воров и пораженцев. Он упорно искал ответ на гомерический для России вопрос: почему все реформы, кроме петровской и сталинской, заканчивались неудачей? И, как заправский экономист очередной «новой волны», пришёл к объективному выводу: в России любая реформа если не делается быстро и насильно, а значит плохо, то не делается уже никогда! Тогда он вознамерился привнести в текущую перекройку некую самостийную национальную идею, попытался высказать стране, по его выражению, «новое неслыханное слово», дабы в искомом итоге волнения, охватившие умы услышавших сиё новое неслыханное слово, вскорости принесли Отечеству сладкие плоды. Однако не вышло ― опоздал: угар перекройки в «лихие девяностые» миновал и не выгорала уже самостийность, а иные «взволнованные» принялись даже требовать отставки Патрона за «разжигание» ― печальный факт евразийской незрелости нашего гражданского общества.
Присущи моему Патрону и редкостные пристрастия. К примеру, он, будучи по женеральской должности словоохотливым и пьющим, решил восстановить статус и традиции российских застольных речей конца девятнадцатого века. На них, оказывается, ссылались не только в мемуарах, но и в учебниках для тогдашних ВУЗов, как на труды учёных. Выпускали даже ежегодники ― «Речи». Диктофон, замечу, в те времена не изобрели ещё; значит, полагаю, сидело где-то доверенное лицо и конспектировало, пока все ораторствуют, пьют, едят, флиртуют и танцуют, если мероприятие с дамами, а в завершение, по традиции, морды бьют. Патрон тоже хотел, чтобы на него ссылались в учебниках, пока он произносит речи, пьёт, а затем с пышнотелыми дамочками пляшет и в завершение мероприятия бьёт всякие неправильные морды и свидетельские зеркала. Но толи пил не то, не столько или под закуску другую, толи темы застольных речей под кальку переносил из девятнадцатого века в двадцать первый, едва наступивший, ― и получалось всё больше про южный фланг, олигархов да евреев, как они, агенты глобализма, Россию заедают. Но особливо Патрон грозился «переделистам мира», исходящим слюной на его любимую Сибирь и Заполярье. «Что, буржуи, нефти-газа маловато! Сибирью-матушкой с вами поделиться? Так и у России тёплых океанов нет. Подгоняйте нам с юга парочку тёплых океанов ― с лагунами и островами, с готовыми курортами, дельфинами, китами… Тогда и мы ― слово офицера! ― отрежем вам своей тайги и тундры с вечной мерзлотой, белыми медведями и клюквой на болотах, а комаров и мошек в придачу отдадим за так…»
Ещё одно пристрастие энциклопедичного Патрона ― сочинять крылатые выражения. Сиё у него осталось ещё со службы в Вооружённых силах СССР. Хотя крылатые выражения Патрона обрели в России уже повсюдную известность, они не вышли ещё отдельной книжкою для заучиванья народом наизусть, а посему приведу парочку выражений для правильного восприятия моего Патрона. Ну, на вскидку… «Тот юдофоб, кто не даёт евреям пользовать себя». «Тот русофоб, кто оценивает русского по делам, а не по благим намерениям».
Про благие намерения проясню. Русский оценивает человека по нравственно значимым для общества поступкам, а вовсе не по результатам последних. Такова уж особливость русского «судейского комплекса». Людей прагматичных культур, тех же англосаксов, раздражает наше бесконечное копание в намерениях, утопание в предположениях и сомнениях, в поисках возможных упущений и прочей «возне». Что за бред? Вот результат ― по нему и суди! Отвечаю: здесь не безделица! Да, русские ни идти, ни думать не умеют по прямой. Да, по русской правде ― и победителя судят, и побеждённого оправдывают. Русский человек судит не с высоты достигнутого результата, а с позиции нравственной чистоты действия, с точки зрения связи искомой ценности с выбранными средствами для её достижения. Русскому важнее всего, какую ценность стремился достичь человек, а получилось или нет ― дело седьмое. «Мы хотели как лучше, а получилось как всегда» ― за это у нас людей не осудят: мало ли что хотящему могло помешать.
Ещё выражение Патрона: «Дураки в России ― явление литературное». Высокий пафос чувствуете? Нет?! Ну, тогда вам исторический пример: Гитлер, с подачи Геббельса, начитался сатирических рассказов Зощенко о русских дурачках, посмеялся с издёвкой ― на Западе-то о своих придурках так беспощадно не пишут ― и купился на литературный образ: полез на Иванушку-дурака с мечом… Продолжать?
А как вам выраженьице Патрона: «Либералы великую историю России норовят обернуть текущим моментом». Или: «Послушать либералов, так уже прогресс ― из нищих превратиться в бедных». Или: «У либералов даже часы политкорректно показывают разное время». А то не разное? Такой плюрализм с постмодерном развели, что невозможно стало читать даже диссертации ― в них не обнаружишь и признаков метóды! Маша и каша в них ― едино! Попробуй-ка теперь, начальство, управлять своим народом без методологий, с позиций одной голой лженауки!
И, наконец, моё любимое: «Кому всё равно, тому ничего не будет». Просто шикарная фраза, шикарная! Битком набита родным содержанием!
Да, явно засиделся неутомимый мой Патрон в ракетных шахтах: давно тянуло его сделаться самостоятельной наставнической фигурой и, чеканя шаг, отмаршировать примерный для нижних чинов и потомков духовно-философский путь. И то: его речи и записи, по сути, оставляя без внимания церковное, к протопопу Аввакуму восходят ― своей обострённой честностью и без всякой интеллигентщины, то бишь со знанием практической, непарадной русской жизни. Случайно ль Патрон так сблизился с местным одним протопопом, бывшим офицером-десантником, и любил откровенные с ним застольные беседы? Когда же Патрона «ушли» в отставку, его крылатые выражения приобрели прямо-таки революционное звучание: «От перемены мест начальников сумма власти не меняется», «Чревато, когда у стихийного народа случайное начальство», «Мудрый рубит под корень»…
А чего стоят его парадоксы! Он и армию свою, при удобном случае, воспитывал на парадоксах, то есть, заставлял думать по-русски: остро и быстро. К слову, я заметил: у нас, когда воспитывают, всегда приводят какие-то анекдоты ― для краткости и остроты, что ли?
Вот, рассказывали, прилетит, бывало, Патрон в удалённую заполярную часть и на санях в упряжке чукотских лаек, гружёных подарками-пайками, чисто верховный Дед Мороз, подкатит к ледяной горке на плацу, где выстроен личный состав в ветрозащитных масках, вбежит молодецки на самую макушку горки и, после приветствий и злободневных разносов, ну воспитывать:
― Войны нет ― армия есть! Бога нет ― церковь есть! Губерний нет ― губернаторы есть! Кто продолжит?! В награду ― мой паёк и уваженье товарищей по оружию!
― Карман есть ― денег нет! ― кричит из строя бравый соискатель женеральского пайка и уваженья товарищей.
― Отставить! Пóшло, рядовой! А пошлость ― самый хитрый чёрт! В армии думай о высоком! Уволишься на гражданку ― тогда вспомнишь мудрость древних римлян: «Граждане, граждане! Прежде всего надо деньги нажить! Доблесть уж после». Ещё парадокс!
― Бейсбола нет ― биты есть! ― это уже, осмелев, прорезался какой-то «возмутитель».
С такими Патрон очень строг:
― Отставить! Проясняю, рядовой! В России бейсбольные биты продаются населению безотносительно чужеземной игры, а как холодное оружие. Для русского характера берёзовая бита ― в самый раз! Как дубина народной войны! Ею добрые граждане и будут гвоздить нашествия непрошенных гостей! Дальше!
― Любви нет ― дети есть! ― кричит из задних рядов ещё один соискатель.
― Уже лучше! ― хвалит Патрон. ― А чем отлична любовь к Родине от любви к девице?!
― Любовь к Родине рождает героев, а от баб…
― Отставить продолжение! Метко и, главное, по существу! Сначала приданное ― невеста потом! Вот вам, бойцы, пример из моей личной жизни: чтó для женщины значит любовь, а чтó ― армия. Свою супругу, по молодости, уговорил я прыгнуть с десантным парашютом. Прыгнула ровно один раз ― и уже сорок лет гостям взахлёб рассказывает, чтó она ― десантница! ― в воздухе пережила! А о своей первой брачной ночи со мной не вспомнила ни разу! Поняли теперь, как должны писать о женщине поэты?!
― Лих-ко!!! ― орёт строй, постепенно заводясь на морозце.
― Тогда ещё! Веселей! В двадцать лет сычами становиться рано! Держи хвост колёсиком! Больше политики: вы не в борделе ― на плацу!
― Украиньска мова е ― Украины нэмае!
― Кто сказал?! А, взводный атаман Загубыбатько?! Выйти из строя! Получи, сержант, паёк ― за политическую грамотность! Даёшь брат-русский и брат-хохол вторую Полтаву оккупанту! Даёшь?!
― Лих-ко! Лих-ко!! Лих-ко!!! ― трижды орёт взбодрённый строй.
И, под звуки ора, бравому контрактнику, сбежавшему с хутора под Диканькой, выдавал Патрон клеймёную гильзу от патрона к «калашу». Предъявив сию гильзу в офицерском буфете, профессиональный хохол получал сто наркомовских грамм, увесистый шматок сала с чесночком и красным перчиком, пучок тепличной цыбули и горячий, прямо с пылу с жару, подарочный каравай дрожжевого, гонящего обильную армейскую слюну, хлеба ― всё из стратегически-воспитательного резерва Патрона, созданного на средства его друзей ― меценатствующих русских патриотов. А что это за клеймо на гильзе, броситесь спрашивать вы, заинтригованный читатель мой? Докладываю: одна гильза, как воспоминание о службе, всегда на столе Патрона стоит; на ней, я разглядывал, выбито клеймо: транспарантно изображённое слово «NO» неполиткорректно перечёркнуто крест-накрест двумя нашими баллистическими ракетами. Объясняю клеймо Патрона, как сам понимаю: ядерное разоружение ― это для зомбированной либеральными СМИ публики, а в наших шахтах и ангарах, дескать, не заржавеет и не дремлют! В армии знали: кто наберёт из рук Патрона три такие гильзы ― лично с тем он, при всех своих регалиях, сфотографируется на армейскую память!
― Теперь ― чисто русский парадокс! ― взывает к строю Патрон.
― Нефть есть ― бензина нет! Дешёвого!
― Отставить внутреннюю политику в строю! Армия должна мужественно разделять бедствия народа!
― Родина есть ― границ нет! ― тогда продолжит самый дерзкий «возмутитель».
― Отставить! Границы примерно есть! Команда охранять примерную границу тоже, наконец, дана! В политике главное: своевременно отдать правильную команду! Армия ― самая мощная политическая сила! Армия ― единственный аргумент в сохранении страны! А что, кроме ракет, Россия умеет запускать?
― Сельское хозяйство!..
― ЖКХ!
― Всё остальное!
У Патрона воспитуемые растут на глазах! Спрашивает в лбы:
― А знаете главную русскую военную тайну?!
― Солдату нечего терять!!! ― с азартом орёт стой.
― Молодцы! Вольно!
Затем Патрон на собственном женеральском заду скатывался с ледяной трибуны и обходил строй:
― Мы учим вас не стрелять ― побеждать! Наш человек с ракетой не пушечное мясо, а защитник народа! Дух рассекает лёд! Древние римляне завоевали полмира и какую оставили формулу победы? «В военных делах наибольшую силу имеет случайность»! То есть победу приносит Фортуна ― главное их божество на войне. Но баллистическая ракета не сперматозоид ― случайно в цель не попадёт! Как только перестали «стенка на стенку» ходить, древнеримская формула боя устарела. Российской армии нужны не герои «стенок», а умные бойцы! Какая война теперь возможна? Из Европы к нам уже не полезут: зачем им сытой жизнью рисковать? Значит, будут палить издалека, свысока, сглубока, исподтишка. Для начала они наслали на Россию социокультурный вирус ― постмодерн называется! А уж вослед заразному постмодернизму, если прошляпим, ракета может прилететь из-за тридевяти морей, посносить нам бóшки, чирикнуть не успеем, ― и весь наш русский героизм обратится в прах. Умная армия обязана предупредить ядерный удар по своей отчизне. Сначала думай ― отвага потом! Но, бойцы: в армии умные только разведка и штаб ― так по уставу! Остальные должны стать умными по радению! Героем и жуликом быть одинаково интересно и выгодно! Только стать героем ещё и почётно! От героя до жулика ― один шаг, от жулика до героя ― пропасть! Стань и ты, рядовой, героем! Смело без всякой визы гони врага до самого его логова! Так что на удачу-фортуну, бойцы, надейтесь всегда, но сами…
И так далее в бодрящем наставническом духе. Вот мне только любопытно, говорил ли он личному составу, что бомбу-то на Россию противник уже никогда не бросит, потому что рассчитывает занять нашу территорию и здесь жить.
Да, быть женералом очень интересно: присяга, окопное братство, ордена, именной Макаров, неуставные отношенья, трибунал…
Патрон требовал от личного состава, дабы на вопрос старшего по званию: «Как служится?!» нижний чин с непременной улыбкой и с огоньком в глазах бодро отвечал: «Лих-ко!» Ибо, по рассуждению Патрона, как ответишь, так и служится ― военная психология! Ну утомили эти кислые физиономии вокруг! Начнём же улыбаться! Пусть военный человек с ядерной боеголовкой под мышкой станет первой в стране улыбчивой структурой. Армия и флот должны своим воодушевлением зажигать гражданское начальство и народ! Патрон всем офицерам строго приказал фотографироваться на воинские документы с бодрою улыбкой. И сия причуда обернулась не пустяшным результатом: начав служить с улыбкой, армия Патрона достигла лучших в России показателей в боевой подготовке и вообще. В самом деле, находясь в строю плечом к плечу с товарищами по оружию, будь то в казарме, или на плацу, или на пешем марше, растяни рот в улыбке и рявкни-ка сто раз «Лих-ко!» ― легко и станет!
Но Патрона одним рявканьем на полярном морозце не проведёшь. Он ещё и задние ряды строя обойдёт и отыщет непременно щупленького новобранца из «дистрофбата» и грозно к нему подступит:
― Как служится, рядовой?! Смотри мне в глаза!
― Трудно, товарищ генерал! ― выдохнет болезный, не смея врать.
― Отставить! Родину защищать «Лих-ко!» Трудно сыну ухаживать за немощной матерью-старухой. Трудно коку на камбузе маленького корабля обед готовить в штормовую качку среди летающих тарелок и ножей! А родину защищать легко! Отец-то есть?
― Никак нет!
― Опять отцов нет ― деды учат внуков! Ну, с дедами в вашей роте не пропадёшь! Грамоту знаешь?
― Так точно!
― Как правильно пишется: «Шинель» или «Шанель»?
― Шын…
― Отставить! Видел фильм про войну, где советский танк летит вперёд, а на башне белой краской надпись: «За Родину!»?
― Никак нет! Я видел кино, где танк с надписью: «На Берлин!»
― Отставить «На Берлин!». Пруссаки впервые после времён Бисмарка становятся нам почти друзья. Это зимой сорок пятого у пограничных дорог мы на щитах писали: «Вот она, проклятая Германия!» А сегодня, рядовой, сделанную Красной армией евроисторию вспоминай с умом! Ты субъект, а не объект! Служи Отечеству ― а там как кости лягут! Слушай, рядовой, приказ: на корпусе баллистической ракеты напишешь красной краской наш ответ Чемберлену: «Враг, смотри и помни: могу перенацелить на тебя!» Это в устрашение спутникам-шпионам. Как пели римские легионеры во время триумфа: «Postquam Crassus carbo factus, Carbo crassus factus est!» Что для грамотеев означает: «Толстый в уголь превратился, Уголь толстым сделался». Служи с улыбкой! Держи хвост колёсиком! Чем ты хуже чукотской лайки? Спутник, лайка, Гагарин ― эту ракетную русскую триаду знает весь мир! Стань, рядовой, четвёртым! Пусть враг тебя боится! Получи паёк! Так, как тебе, боец, служится?!
― Лих-ко!
Вообще Патрон недолюбливал худеньких и маленьких солдат, он даже часовых подбирал по самому большому размеру валенок, а у офицера-коротышки не было шансов на продвижение по службе. Я, как попал в ЖИВОТРЁП, тоже невольно стал ходить подтянуто и по струнке, и, хотя носил ботинки на толстенной подошве, ещё и тщился в присутственные моменты подняться на носок. Зато Патрон всегда поощрял редкостные качества у младших чинов. Когда во время трёхминутного солнечного затмения один рядовой, неправильно поняв команду «Лечь!», успел с полигона в тундре на лыжах прибежать в казарму, раздеться, лечь и уснуть, Патрон наградил его пайком. От сна ещё ни один солдат не погибал!
Закончив обход старослужащих, Патрон, в сопровождении офицеров, подходил к шеренге пополнения. Задубевшие на холоде новобранцы, ещё кутаясь в гражданские одежды, без валенок и масок, качались на ветру.
― Этот годен… Годен… А этого держите, а то сейчас в тундру сдует! Я же просил дистрофиков не присылать! Ладно: в дистрофбат ― на два месяца. К воинской присяге не допускать ― пусть сначала выживет. Годен… Этого тоже в дистрофбат, а как откормите, на обучение ― к лайкам. Сможет водить упряжку ― поставить наводчиком ракет, на!..
Сурово, скажете, сентиментальный читатель мой? На то и русский север! Географический центр России располагается ровно на Полярном круге ― откуда взяться евросантиментам?
― А кто на меня жаловаться хочет, ― обращался Патрон грозно уже ко всему полку, вскочив опять на ледяную горку и размахивая именным Макаровым, ― предупреждаю: пишите, блюдя армейскую честь, сразу верховному главнокомандующему, по адресу: «Президент-собака-ру». А то нашёлся один сукин кот, рапорт на меня сочинил: не по уставу, мол, службу несу, а по наитию отца-командира и кормчего, а армия, мол, не народ, а пушечное мясо! И личный состав, дескать, заставляю маршировать под нестроевую песню Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть!» Да под такую песню даже тучи ходят строем! И культурных шоу, мол, не признаю ― одни народные гулянья! И армию свою, вопреки указаньям свыше, не даю превратить в коммерческую фирму, чтобы из армии прибыль для бюджета получать. И эту чушь написал молодой офицер! И, мол, создал я в своей армии натуральный «дистрофбат» для откорма новобранцев. На казённые харчи для безотцовщины, сукин кот, позарился! А он, защитник родины, пацан, он ещё физически расти не кончил! Командарм сначала должен набить едой худой живот солдата-новобранца, чтобы просто нашлось хотя бы у призывника, чтó положить за родину! Ладно, настрочил ― коты учёные все пишут! Только направил рапорт не в генштаб, не министру обороны, а в администрацию президента! А это уже политический донос! Такие двурушники и писуны, случись война, предадут всегда! Потеть тебе, сукин кот, кошачьим потом! Теперь знай, N-ская часть: я вызвал писуна на дуэль ― играть в шахматы на раздевание при минус тридцать восемь, на плацу. Теплолюбивый котик отказался: доносчивые свои лапки поберёг. Тогда я так и накатал писуну в характеристику: «Для прохождения дальнейшей службы годен только в должности кота в музее Булгакова!» И поверили ― мне! Уволен, доносчик, в запас ― пострадал за кривду! Прибыль ему подай! Прибыль от армии одна ― обеспечить Родине мир!
К слову, у Патрона было своё отношение к кошкам: он их терпеть не мог за тунеядство, неблагонадёжность, любовь к комфорту и за слышимые свадьбы без видимых разводов. «Откуда кошки за Полярным кругом?!» ― грозно вопрошал он подчинённых, собственноручно отловив в гарнизоне сплоховавшую кошару. Патрон всегда начеку! Вероятно, он подозревал кошек в шпионаже ― нанотехнологии-то вон куда шагнули. И то! Страшно представить: вживит, к примеру, противник кошечке ― молодой да ласковой ― свои датчики-передатчики и закинет упакованную тварь нам в глубокий тыл, да хоть в то же ракетное соединение Патрона. Вотрётся кошечка в доверие, естественно, к официанту в офицерском буфете… Чуете, куда шпионский сюжет выезжает? В буфете толкутся поддатые, с вечной мерзлоты, офицеры, вольно меж собой общаются и, заметьте, о женщинах за Полярным кругом офицеры не болтают, ибо там все женщины ― их жёны, свободных дам в северных широтах просто физически нет, значит, говорят только о местных особенностях национальной рыбалки и охоты да об исправлении секретной своей службы. Вот кошечка-шпионочка, пусть далеко и не пушкинский кот учёный, будет легко и непринуждённо записывать их разговоры, а пуще того, с немытых рук, коими её будут гладить, датчики-хроматографы в загривке кошечки определят химсоставы веществ, с коими офицеры контактировали по службе. А фишка в том, что кошкам и хвалёных в телевизоре импортных батареек не нужно для подпитки, они сами по себе наэлектризованные: потрутся об унты дежурного офицера или в заброшенном под койку валенке поспят ― и вся шпионская техника заряжена! А как добудет лот служебных тайн, влезет шпионка на верхушку кривой ёлки, якобы когти поточить, а сама хвост-антенну трубой задерёт и передаст на вражеский спутник все наши военные секреты. И так может длиться лет двенадцать кряду, пока не сдохнет от старости шпионка. Отсюда и оргвыводы Патрона: отловленных кошек по его приказу бросали в клетки и с оказией, воздухом, переправляли на Большую землю, в лабораторию контрразведки, где следы пленённых кошек покрывались мраком тайны… И что вы думаете? За отловленных кошек-шпионок получил-таки Патрон от командования благодарность, с обтекаемой, сами понимаете, формулировкой, дабы никто не догадался… Но не всё так гладко протекало. За одного рыжего кота вступилась решительно вся офицерская кухня. «Неужели обязательно, чтобы во время обеда между ног лазал рыжий кот?» ― вопрошал Патрон дежурного по кухне офицера. «Так точно! Обязательно, когда подаётся тушёный кролик!»
Где кошки, там собаки ― для равновесной оппозиции, без коей нам жить теперь не разрешают. Было у Патрона своё отношение и к собакам. А именно, к лайкам. Чукотских ездовых лаек Патрон любил за верность, неприхотливость, полезность и непреходящую готовность к службе ― что хвост всегда держат колёсиком! В слове «лайка», подметил умница Патрон, нет даже ничего двусмысленного, в отличие от слов «собака», «пёс», «кобель», «сучка», «ищейка», «бульдог», «болонка»… Это я ещё «моську» опускаю! Патрон свято верил в силу личного примера и, когда поучал нижний чин, всегда, для доходчивости, ссылался на исторических псин и на знакомых по службе лаек:
― Что ж ты, рядовой, дурнее пса?! Погляжу: дурней! Твоих родителей ещё на свете белом не было, как Белка со Стрелкой в космос уж слетали! Иди, поучись у завхозовских лаек: спят в снегу, пьют снег, едят всё, что видят, а нарты каюра везут бодро и скоро. И никаких сюрпризов! И перед своим каюром хвост держат колёсиком! Настоящие воины! Герои! А ты, услышав лай караульной лайки, сможешь передать сигнал тревоги громко, быстро и без грамматических ошибок? Что, даже и среднюю школу не закончил?! Как же тебя, призывника, на медкомиссии окулист проверял на зрение, если ты неграмотный? И о Сотере не знаешь? Сотер ― один из пятидесяти сторожевых псов в армии Александра Македонского. Отважный барбос! Выполняя служебный долг, он смог посреди ночи разбудить гарнизон, предупредив нападение врага. Великий Александр подарил псу серебряный ошейник, а позже воздвиг храм во славу четвероногого героя. А ты, рядовой, даже на мой паёк не тянешь!..
Как-то, рассуждая при мне о парадоксах прогресса и геополитики, Патрон многозначительно ухмыльнувшись, изрёк: «От собачьей упряжки до межконтинентальной ракеты один шаг ― в буквальном смысле!» Зная неутомимого Патрона, я мигом сообразил: на всякий непредвиденный в армии случай он рассчитал, сколько ездовых лаек нужно запрячь в одну упряжку, дабы полярной ночью перевезти замаскированную под новогоднюю ёлку баллистическую ракету во временное тайное укрытие и там пережить очередную волну одностороннего разоружения. А подсчитав, договорился с чукчами-партизанами со стойбищ ― в обмен на пороховой заряд и огненную воду ― о мобилизации строевых лаек и, как пить дать, успешно провёл учения! И, если бы не военная тайна, я готов был побиться об заклад: именно за эти учения Патрон получил от командования самую ценимую им награду ― медаль «За смекалку в полярную ночь», коей награждали исключительно за добровольное выполнение неадекватных приказов. Увы, лайки долго не живут…
Всё же, рассказывали, донос того сукиного кота едва не стоил Патрону очередных неприятностей. Из администрации президента сурово так вопрошали: «»Президент-собака-ру» ― это намёк или задняя мысль?» «Какие такие ещё мысли у нештабного генерала, о чём вы? ― откликнулись из генштаба боевые друзья Патрона. ― Тем более задние! Он двадцать лет в ракетной шахте просидел, в мерзлоте навековечной ― и отморозил всё, что имел. Кадровый отморозок! И слегка, вероятно, облучился. Так это и мы все, не исключаем, слегка пооблучились. А что «президент ― собака», то не намёк: для генерала есть одна собака ― лайка, сравнение с ней ― высшая похвала для человека. На таких чудо-офицерах российская армия со времён Суворова только и держится. Или вы чтó, в сам деле, взялись условия прохождения воинской службы на северáх к лучшему менять? Может быть, поднимете довольствие до НАТОвских стандартов?» Отвязались сразу…
Но иной раз вечно рефлексирующее столичное начальство открывало-таки ужасную пальбу по воробьям, не давая Патрону головы из шахты высунуть. Ну, это когда, к примеру, на концерте по случаю условного окончания полярной ночи Патрон развеселился и, дабы служили с улыбкой, приказал спортроте канкан с парадными карабинами и в валенках исполнить. Или когда, попав мимолётом на заполярное телевидение, на вопрос любопытствующей девушки-чукчанки в национальной одежде: «А система ПВО ― надёжная защита моего стойбища от ракет противника?», ответил: «Волосики на интимном месте у девушки ― это защита от противника? Нет, это прикрытие! Вот и система ПВО ― только прикрытие!» И тогда, твёрдый по любому поводу Патрон, как хитроумный Одиссей, прикидывался на время смирной овцой и переходил на эзопов язык. К таким временам относятся наиболее замысловатые его крылатые выражения: «Чем дальше можно, тем меньше нужно», «В будущем наши люди сделаются лучше ― им и смягчать русский характер». А как-то раз Патрон подстраховался тем, что к приезду столичной комиссии приказал развесить в бункерах приказ, запрещающий операторам пусковых установок на боевых учениях напевать популярного в ракетных частях Бутусова: «Гуд бай, Америка, о-о-о…»
А уволили Патрона вот за что. Он, как мог, препятствовал разрезке своих ракет и уничтожению шахт за американские деньжищи, за что, наконец, был сослан командовать военным училищем. Ab equis ad asinos, «Из коней в ослы», как говаривали древние римляне о резком понижении в должности. Прибыв в училище, весь в праведном гневе, Патрон немедля собрал офицерское собрание и держал перед ним речь.
Товарищи офицеры, времени у меня в обрез, поэтому буду говорить не думая ― от сердца! Откуда взялся бардак там, где должен быть армейский порядок? Российская военная мысль в тупике: классические парадигмы войны себя изжили и сегодня невозможно в большой войне достичь победы чисто вооружённым путём. Советская военная теория скончалась, а новая оборонительная доктрина обеспечит нам заведомое поражение. Почему? Доктрина новых кремлёвских кандидатов на Нобелевскую премию мира подразумевает применение российского ядерного оружия только в ответ на использование против России и её союзников ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Но это стратегический абсурд ― подставляться, сидеть и ждать, когда тебя прихлопнут, если точно знаешь, что противник уже решил наносить удар. Это что за государственный мазохизм такой?! Одного ядерного заряда хватит, чтобы и Кремль, и Генштаб в Москве мгновенно испарились на радиоактивном ветерке. Кто будет отдавать приказ об ответном ударе? Даже если Верхглавком останется в живых, он после удара способен будет соображать ясно? Или даже соображать вообще? Ядерный удар приведёт к слому воли и психики людей, начнётся паника. Помните, что творится после землетрясений, цунами? А тут бомба! Сто бомб! Тысяча! Катастрофа для всей инфраструктуры и биологии человека. Не вызовешь «Скорую» по телефону, а всех материальных средств защиты у армии и тем более у гражданской обороны ― помещений, кожи, крови, лимфы ― вы знаете, их куда меньше, чем было на «Титанике» спасательных шлюпок. Ядерный удар не бытовая пощёчина! Это пощёчину обиженный герой не стерпит и сам, вторым номером, шлёпнет противника по щеке. От первой ядерной пощёчины можешь испариться на месте ― и возмутиться не успеешь. Бесстрашная Япония сразу капитулировала на сто лет вперёд, как американцы в сорок пятом ей вкатили парочку несильных оплеух. Противник должен знать: Россия применит ядерное оружие не в ответ, не в качестве возмездия, а когда сочтём необходимым ― и только так! Это положение и должно лежать в основе нашей оборонительной доктрины. При нынешней, пораженческой доктрине, невозможно выработать стратегию и тактику победы, а все наши современные экспертные оценки и прогнозы ― коту под хвост. Чудовищно: в военной доктрине государства отсутствует не только дух победы, но даже и само слово «победа»! У нобелевских лауреатов мира нет, оказывается, противника! Их окружают одни друзья! Приказ «К оружию!» никто не отдаст! Верховный бред о терроризме, как о главной угрозе, рассчитан на домохозяек. Пораженчество должно быть под законодательным запретом! Наше обычное вооружение уже в прошлом веке устарело, а у нерадивых командиров ― ещё и заржавело. Ржавые самовары стрелять не могут! Вооружения системы воздушно-космической обороны разорваны между родами войск: единоначалия нет. За стойкой в пивбаре единоначалие есть, а в армии ― нет! Как прикажите оборонять огромную страну? Чем? Ржавые самовары летать не могут! Современная российская армия не в силах даже сохранить монополию государства на вооружённое насилие: уже возникла угроза использования армии в неконституционных целях, уже организуются частные армии. Армия сегодня не готова даже к локальной серьёзной войне. У России нет мобилизационного ресурса, нет мобилизационных мощностей, даже бумажного плана мобилизации нет. Армия способна отразить только первый массированный удар, а дальше останется уповать на русскую штыковую атаку ― это против ракет!
Товарищи офицеры! На заре капитализма считалось: лучший способ борьбы с бедностью ― физическое уничтожение бедняков. По той же логике, что ли, лучшая модернизация российской армии ― это её физическое уничтожение? Засевшие в гражданском начальстве дураки или предатели ― сам ещё не разобрался ― проводят безумную военную реформу: вместо модернизации сломали надёжную советскую военную машину, убили ВПК, разогнали генералитет, расформировали училища, даже суворовские, учения превратили в глупейшую бравурную телепоказуху, свели на нет управляемость войсками, ликвидировали победную государственную идеологию воинской службы, оболгали благородную и непобедимую мотивацию службы в армии как защиты Родины. Кремлёвские спекулянты, натворив дел, естественно, не верят в лояльность армии, до смерти боятся её. Они не в состоянии поднять собственный авторитет в глазах народа, потому методично и безотчётно перед обществом уничтожают российскую армию, снижают наш авторитет. Эти брехуны придумали, конечно, объяснение развалу армии: мол, армия является частью общества, а коль общество деградировало, то и армия туда же. Гнусная ложь! И ещё тогда зададим естественный вопрос: зачем народу и армии такое руководство, если при нём общество деградирует? Истина в том, что армия ― особая структура и один из основных институтов и признаков государства. Армия вырабатывает незаменимый продукт ― безопасность, без которой невозможно триумфальное развитие страны, как было при СССР. Сегодня Россию без боеспособной армии и без военных союзников ни во что не ставят, а в ближайшем серьёзном геополитической кризисе нас могут попросту смять. Война ― это пока что общественное бытие, поэтому нужно к ней быть всегда готовым. К тому же Россия неизбежно находится в состоянии непрерывной войны цивилизаций и войны за наши природные ресурсы. Хочешь выжить, рассчитываешь обеспечить будущее своим детям на родной земле, будь готов в любую минуту воевать с оружием в руках ― другого пока не дано. А в болтовне, в странных «договорах о мире», нас, ослабевших и уже не раз в мелких стычках битых, традиционно обманут, переиграют или грубо подкупят нашу спекулянтскую верхушку. Договариваться и уповать на мир можно только когда за твоей спиной стоит новая с иголочки армада. На кого же сегодня может опереться офицерство? Офицерство, армия в целом могут опереться только на патриотов в гражданском обществе, на воинское братство и на собственные семьи. Если уж советская армия не защитила СССР от уничтожения, то нынешняя ― люмпенизированная, оболганная ― тем более не защитит Россию. Товарищи офицеры и курсанты! Убейте в себе малодушие! Я и генерал-полковник Аршинов, при участии экспертной группы старших офицеров ГРУ, разработали проект новой оборонительной доктрины России и сообразный ей проект военной реформы без всяких парадоксов. Докладываю собранию: сегодня утром, перед вылетом на место новой службы, я отправил оба проекта в Генштаб. Сейчас я впервые озвучу…
Не успел Патрон озвучить и преамбулы своей доктрины перед замершим залом Дома офицеров, как включилась громкая связь, и из Минобороны сообщили, что приказ о назначении начальника училища печатала не выспавшаяся секретарша, забила не ту фамилию, а министр, как всегда, не глядя бумажку подмахнул, а только что вышел правильный приказ об отстранении Патрона от должности за «дурной пример» для курсантов и списании его в категорический запас.
Начальником училища Патрон пробыл неполный световой день ― совсем в духе родного Заполярья. А «дурной пример» заключался вот в чём. В тот день, прилетев с северóв на материк, Патрон взял на военном аэродроме легковушку, дабы самому за рулём прибыть в училище, но сходу завалил берёзку в перелеске, окружавшем аэродром, и, само-собой, в хлам разбил передок казённой машины. Привык он за годы заполярной службы на гусеничных вездеходах и на «Уралах» переть напролом по бездорожью тундры и бампером валить карликовые деревца и грядки кедрового стланика ― ну привык! На северáх, ведь, на легковых не ездят, а на вездеходе объезжать каждого карлика ― стране дороже станет…
«Добрые люди» из администрации Непроймёнской стороны не раз мне намекали: думаешь случайно в «кадрах» Министерства обороны замотали присвоение тебе звание премьер-майора? Держись подальше от своего Патрона: за него Генштаб, но не «кадры», а кремлёвские кадры решают всё. Ну, кого возводить в чины ― начальство разберётся! Сначала служба ― должность потом! А, может быть, моё представление на подполковника утеряла не выспавшаяся секретарша?
Мемуар № 3
Новелла о сталинской Девушке с веслом
Еду в контору за ЦУ, невольно думаю про неё. Когда Савелич отдавал Марусю кому-нибудь в сопровождение, значит, намеревался скрыться ото всех и уже взялся хорошенько поддавать — до стадии неотступности от своих планов. Одна только надежда коснуться нечаянно горячего и крепкого бедра Маруси, да и просто рядом побыть со столь редкостным явлением самобытной русской природы и духа меня всегда ещё как вдохновляла! Почти двухметровый и восьмипудовый здоровяк, Савелич, подтравливая друзей, не без иронии и, конечно, за глаза, называл свою верную спутницу завидными, до крика, именами: «Девушка-чугунка», «Кавалерист-девица», «Подруга боевая», «Пятиконечная звезда»; иной же раз, в тему текущего застолья, нарекал её весьма замысловато: «Гипсовая статуя девушки с веслом» или «Земной рай в шалаше большом»; а когда приходил в игривое настроение и хотел задразнить Патрона, называл Марусю: «Тёплая коса», «Русская печь» или «Одна — за три упряжки лаек». Вы, образно мыслящий читатель мой, и без авторских комментариев, конечно, поняли содержание Марусиных прозвищ — всех, кроме «Тёплой косы». Ну, признаюсь, это я умело интригую: недальновидно же для серьёзного мемуариста всякий эпизод разжёвывать до манной кашки и ложечкой кормить. Ждите!
Пятиконечная моя Маруся имеет на редкость понятный и, что удивительно, почти всеми легко принимаемый вид звезды национального масштаба. Она за метр девяносто ростом, широкоплечая, с крепким костяком и круглой теперь попой, хоть циркулем веди, с яркими и влажными зелёными глазами, и с рыжею косищей, толщиной в мужскую руку и ниспадающей до самих до колен. Марусина коса имеет эстетику тигриного хвоста ― самого роскошного хвоста в земной природе, ну очень облагораживающего любого его носителя. На сию тему один поклонник Маруси, чуть-чуть опередив меня, написал даже нравоучительную басню:
«Косу, с эстетикой тигриного хвоста,
Учёная девица носит неспроста.
При дуализме легче достигнуть чина:
С косою она женщина, с умом — мужчина».
То-то за Марусей гонялись из TV и «глянцев», когда спортсменкою была. И какою! Она стала чемпионкой мира и олимпийских игр по гандболу! На рекламе спортивной одежды и здорового образа жизни заработала большие миллионы и, полагаю, удачно вложилась, и теперь умело на дивиденды проживает. Савелич как-то, на проигранный в застолье спор, принёс диски с видеозаписями её избранных матчей. Это нестерпимо было нам, офицерам всем, смотреть! Моё воображение прожгла насквозь и навеки вечные телесная мощь Маруси, её животная неукротимость в движении, её ракурсы и позы, боевые крики, её преображение в яростной атаке, свирепость в обороне, будто охраняет не командные ворота, а своё дитя, её столкновения с тяжким падением и хрустом, её стоны, дичь! Вот, сижу-шуршу сейчас по клаве, а встаёт картина: она перехватила мяч и оторвалась — одна, крупной рысью, площадку рассекает, эротично выгнув спину; весь пол дрожит, весь зал гудит и тысячи глоток по складам орёт: «Ма-ша! Ма-ша!! Ма-ша!!!»; и та заводится уже машиной и несётся к воротам противника: её руки-ноги-голова-коса — туда-сюда, туда-оттуда, во все концы! Коса и бесится, и пляшет, и мечется по сторонам, и бьёт, и то обовьется, то опять взлетит! И от косы, рисующей на воздухе змеиные зигзуги, вся Марусина фигура становится как о пяти концах — нечеловеческой, невиданной, магнитной! А как она в конце забега, в прыжке метровом, кидая поверх блока в сетку мяч, кричит с бранной резью от самой диафрагмы, как должна была, лишив соображенья, визжать Сирена в уши Одиссея, так что эхо три раза облетает зал! Так Маруся, на языке профи, «снимает паутину и убивает паука». Дикий, неукротимый темперамент у Маруси! Язычница! Атлет античный — только с бюстом!
В чём, любвеобильный читатель мой, заключена первозданная, без штукатурки, эротичность женщин? В моём воображении, эротична та женщина, коя неудержимо движется тебе навстречу, когда она раскрыта и растянута, пахнет и кричит! Заметьте, в сём определении о так называемой женской красоте — ни слова! Как устарели все натурщицы «Весны», «Венеры», «Флоры»… С них гениальные художники смогли изобразить лишь толпы безучастных анемичных женщин. Изображения женщин есть — нашего приобщенья нет. Маруся — вот натура! И не для лепки новых Флор и Венер — для эротичной Девушки с веслом! Я не слабак, но к спорту имел кривое отношенье. Пока не повстречал Марусю. А теперь зову: мужчины, все на стадион! Ползите, летите скорей на стадион и в залы — отыщите сильное, с волнительным рельефом, тело женщины-дикарки, застаньте его в мгновения физических пределов — и впечатление получите на всю оставшуюся жизнь! Во всякую ложбинку такой Маруси невольно хочется попасть и уместиться, на всякую выпуклость её — упереться и налечь! Сколько, прикидываю, свадеб Маруся, не ведая сама, расстроила, когда жених, припомнив на мгновение тот, покоривший в зале, вид Марусин и исходящий от неё витальный дух, кричал невесте, убегая: «Прости, прощай — впечатленью своему не изменю!»
Тогда, уверен, воспылав и тоже захотев мою Марусю, чем, броситесь вы спрашивать меня, подруга отлична от поклонницы, фанатки? Отвечаю. Маруся была на протяжении лет пяти раскрученною поп-звездою спорта. Когда Марусю, на еврозаказ, «убила» на площадке неведомая никому афро-француженка, подножкой разорвав крестовидную связку и мениск в колене, она ушла из спорта и по своей воле стала невидимой в тени планетой у другой звезды — у протопопа. Фанаток несть числа, а боевых подруг — одна на миллион. Вот признаки подруги: беззаветная преданность другу, полная готовность всегда и во всём следовать ему, беспрекословность, самоотдача, крепость тела и духа, готовность переносить невзгоды и жертвовать собой, постоянство, верность, непритязательность, суровость и недоступность для других. Охочий до определений, энциклопедист Патрон говорил мне: Марусю постигла любовь типа агапэ, как называли её философы Древней Греции, — это жертвенная любовь, с бескорыстной самоотдачей и растворением в заботах о любимом человеке. Для сравнения с Марусей могу предложить одну только Скифскую амазонку — неукротимую Гипсикратию, сорок восьмую и обожаемую жену Митридата VI Евпатора, царя Босфорского царства. Митридат единственный, кто смог в своё время победить скифов, а ещё он успешно провёл три войны с Римом. Митридат звал жену мужским именем — Гипсикратом, как написано на плите захоронения Скифской амазонки в Фанагории, на нашем черноморском побережье. Хотя Гипсикратия успела родить Митридату трёх дочерей, она неотлучно следовала за мужем во всех походах и была воительницей, то есть наравне с царём участвовала в сражениях и, скорее всего, пала в бою. Вот и моя Маруся не от мира сего! Она повыше метит декабристки. Она вращается в пространстве как целая планета, и сама взялась откуда-то с высоких звёзд. Взгляд её глубок и влажен, и пленяет без дешёвого манкá. Таким взглядом она смотрит на своего друга милого и очень редко — на друзей простых. А милого если рядом нет — и Маруся отстранена от мира, погружена в себе так, будто одна знает какую-то особенную правду, и не желает раскрывать. В спокойные минуты у неё лицо строгой и вдумчивой училки, хоть надевай на нос очки. Для Маруси, чаю, не существует ни родителей, ни начальства, ни законов, ни авторитетов… — один лишь её милый друг, в нём заключён весь мир. Никто не знает, где обретается она, кто её близкие, чем занимается сейчас, какие планы… Она не пустословна и служит другу, как собака, точнее — пёс сторожевой. Подруга — личность сильная, и оттого не сливается в одно целое со своим другом, но всегда рядом, в животрепещущей близи. Подруга не строит личную карьеру и без показушных амбиций — это в отличие, самом броском, от фанатки. Подруга боевая хочет именно служить, а не владеть своим другом. Она не мечтает замуж выйти за друга милого: тогда у них всё станет как в обычной семье, без взаимного притяжения и отражения, без самопожертвования и преодоленья, без верной и бескорыстной службы вопреки всему и вся. Боевой подруге не всё равно — женат её друг или нет, и есть ли у него ещё подруги; но, если такие привязанности есть, она примет их, как неизбежность, и переживёт. Подруга боевая всегда немного мазохистка ― мужчинам это в дамах нравится всегда!
Как независимый мемуарист, признаюсь: я завидовал Савеличу. А уж мой Патрон — он-таки извёлся! Патрон открыто возмущался: почему не ему, заслуженному женералу, а хулиганистому капитану, пусть и десантнику, досталась настоящая кавалерист-девица, такая редкость в наши времена. А ведь был у Маруси почти жених! Успешный, как она, в европах гандболист: детинушка не слабый, с умом и развитóй. Выяснял отношения с Савеличем, подстерегал, пугал, дрался, вены себе резал. Так Маруся своего почти жениха, с его евровыгодой, отвергла и прилепилась, как ракушка к днищу корабля, к женатому и седому Савеличу — выпивохе, бабнику и грубияну, с приличным животиком и вставными зубами, у коего предобродетельнейшая жена-поповна, взрослые дети, а уже и вылез на свет божий первый внук. Ничуть не комплексуя, ходили они всюду колоритной парочкой-гуськом: пестун Савелич, в рясе чернильно-фиолетового колера, с плашками медалей-орденов из-под бороды, с крестом на животе и прочим нехитрым причиндалом, шествовал линкором впереди; послушница Маруся, в удлинённом сиреневатом платье, при заброшенной поверх рюкзачка косе с вплетённою змеёю — для сигнала! — ярко жёлтой лентой, со школьным стареньким портфелем Савелича в руке, как крейсер, замыкала. Только всегда казалось мне, для законченности узримого образа их гуська Марусе не хватало винтажной узенькой косыночки на медных волосах. Епархиальные сами иерархи, обнаружив нескрываемый падёж нравов у нижнего чина, повылезали было из своих русских бань да из перин собственных фанаток и подруг и пытались урезонить протопопа, но быстро отступили: чего взять с него — десантник! Здесь сыграло: в церковное начальство протопоп не лез, на должности, то бишь, не претендовал, а оставался самим собой — отцом-попечителем десантников-дембелей, отвоевавших своё на южном, самом беспокойном, нашем фланге. А вот десантники, особливо из МВД и всяких служб, иерархам были очень даже кстати: мало ли… — то одно случится, то другое — времена лихие, без конца! Говорили, в последний крестный ход, на Пасху, великую толпу народа при свечах, что собралась у храма, десантники Савелича построили колонной в ряд по четыре, в дыры затолкали туристов и зевак, и тем удвоили численность колонны, разбили её поротно — и строем, в ногу, без всякой давки, вели за её облачённой церковной братией Савелича: вышло, как Пересвет с Ослябей вели ополченцев в бой на Куликово поле. Народ был предоволен и шёл как миленький — так жаждут все у нас дисциплины и порядка! Архимандрит, когда прознал, хотел было образцово-показательно взгневиться и наказать зачинщика. Но мероприятие года обошлось без малейших происшествий! Пасху Савелич отслужил под надзором вместительных санитарных машин от госпиталя ветеранов, да с полевой кухней и свежим хлебом от гарнизона, да, само собой, с ядовито-синими биотуалетами от меценатов-патриотов, с передвижной электростанцией и прожекторами от, естественно, эн-ской тюрьмы, да под крепкой охраной собственной службы безопасности… А у Савелича, кстати, самый в епархии сложный и дальний городской маршрут — считай, целый ночной марш. И пришлось архимандриту Савелича хвалить…
Но это служба — все мы хороши… А вот как Савелич смог заполучить Марусю, чем держал при себе — вот где тайна похлеще любой из военных тайн, а для меня, душеведа-профи, ещё и ревнивая загадка. Но, конечно, держал Марусю никакой не верой во Христа. Когда в нескромную минуту друзья особливо донимали Савелича расспросами о девушке-чугунке: «Как смог захомутать такую?» — он только в бороду улыбался счастливо и немножечко блудливо, с блаженненьким чуть-чуть самодовольством, и тогда, при воздетых к небесам очах, крестился трижды, и вопрошающих мирил с собой на сладкий выдох: «Просто повезло…»
Ну, а откуда, спросите, брутальное взялось в моей Марусе? Я не болтун, но расскажу для полноты картины. В таблоидах читал: всё раскопали бойцы клавиатуры… Неместная Маруся с детства отличалась высоким ростом, крепким костяком, силой мышц и духа, координацией всех членов, мужским умом и верным глазом. Ещё подростком, через жёсткий конкурс, попала в школу олимпийского резерва. Здесь тренер по гандболу, опытный насчёт всего мужчина, положил на Марусю тоже верный глаз: разглядел в девчонке нечто, чтó стоило и страшно захотелось развивать. Тренер что физрук: состоит из мяса и свистка. Тогда скандалами, режимом, ложью, чем попало, тренер отсёк девчонку от её родных и, по сути, заменил последних. Маруся, выходит, стала по жизни безотцовщиной, что мой из Матерков Афоня. Тренер обращался с подопечной совсем не педагогично: круто, властно, как в школе гладиаторов. Он изо дня в день, годами, наказывал её физически, на всех тренировках, без дела, хватал за все места, толкал, давил, жал, тёр и мял, мял, мял её от пят и до макушки, как четыре массажиста вместе взятых, не позволял стричь волосы на голове и брить в интересном месте, на локоть от своей руки не отпускал, пас день и ночь — в закрытом интернате это легко осуществимо — и, главное, регулярно, в меру, аккуратно бил: не импульсивно и, конечно же, беззлобно и бесследно, а изобретательно, с придумкой, любя и приручая, как на привязи собаку, и, конечно, очень рано, презрев уголовный кодекс, стал пользовать интимно юниорку. Интернаты, школы олимпийского резерва, базы, залы, сборы… — это всё добровольная тюрьма для молодого человека, без коей невозможно стать настоящим профи в спорте. А личной жизни в тюрьмах — никакой. С годами строгого режима и тренинга описанного рода, Маруся сформировалась атлетично и как личность. Особливо в яркой форме она стала походить на разрисованную амазонку с глянцевого календаря. Все приказанья тренера выполняла по свистку, беспрекословно. Вышел из неё истый боец на площадке, международный мастер спорта, но и мазохистка. Сформировался и характер: бойцовский, командный, выдержанный, неприхотливый, послушный, уравновешенный по жизни, но и дико заводной, как только вступали в её тело мышечная радость, физическая боль от столкновений на площадке и звуки медных труб — спартанский характер, одним словом, как я себе спартанцев представляю. И ещё что для таблоидов долбаки от клавиатуры раскопали на ура: этот насильник-тренер знал своё дело туго — он своими физпроцедурами, своим мятьём и катаньем сделал кожу Маруси столь выдающейся по качеству и красоте, что от косметических журналов отбоя не было, а иллюстраторам и фотографам не приходилось часами ретушировать снимки, замывая точки, ямки да прыщи. Несвоевременный синяк ей мог стоить потери моей годовой зарплаты или больше. А что может быть сейчас из женских внешних качеств дороже и важней красивой кожи? Ничего! Сегодня состоятельная дама в своих поверхностях может сделать всё, кроме чудо-кожи. Уже тот, первый тренер, когда их клуб попал на европейские экраны, поднял рекламную цену Маруси до ослепительных небес.
Ну, а ближе к телу? Маруся, бодримая тренером, выходила на площадку, как на арену. В игре она впадала в неистовство от столкновений и ударов, от падений и толчков, от собственных криков и рёва зала, от мышечной радости и боли… — и в раздевалку, после финального свистка, как актёр главной роли по окончании трудного спектакля в гримёрку, врывалась страшно возбуждённой. Тут продвинутый наставник и устраивал ей очередную схватку — с нагрузками совсем иного рода… Или быстро увозил ещё не остывшую Марусю в отель — когда у него была возможность для продолжительных разборок…
Семнадцатилетнюю, её уже продали в команду мастеров — и она быстро стала российской сборницей у взрослых. Там новый тренер, с характером восточного мужчины, двухметровый, мускулистый, густо-волосатый, с азартом принял эстафету первого наставника Маруси. Новому мясу и свистку наверное по-дружески шепнули, как с девой пристало обращаться, дабы разжечь спортивную звезду и как подругу не испортить. Принял и, на свой лад, к ней сильно привязался, как иной наездник влюбляется в своего коня. А был сущий деспот! Такое среди лучших в мире тренеров не редкость. Послушная Маруся, не вкусив ни дня свободной жизни, как должное приняла в новом тренере «своего мужчину» и стала животом служить ему и клубу. Но в девятнадцать её потянуло на романы. Хотя бы на один роман! Хотя бы на какой-нибудь! Попробовать хотя бы, как другие! Сбежала… И попала моя безыскусная Маруся сразу меж двух огней, сиречь мужчин. Было четыре бурных месяца увозов и погонь, клятв и заверений, соблазн сменить гражданство, подарки царские, и даже облетевший все мировые СМИ жестокий абордаж в ночи круизного лайнера в море-океане, с редкостной по накалу страсти массовой дракой на борту — безоружной, ибо дрались спортсмены, и, наконец, развязка: измена ею предпочтённого еврокавалера! Сначала влюблённость — разочарование потом. И на сём отступничестве, полоснувшем немилосердно по святому для Маруси чувству преданности, случилось нешекспировское укрощение строптивой: она, впервые косу зажав меж крепких ляжек, возвратилась в клетку дрессировщика — поруганная, жалкая и с разбитым тривиально сердцем… Любовник-тренер, мудрый змий, естественно, «простил» — мол, возрастное! — и побоями, давлением каждодневным и режимом быстро вверг её в прежний стереотип брутальных отношений, и за последующие годы так его укоренил и закрепил, что до сих пор моя Маруся, как зеницу ока, бережёт свой управляемый извне душевный мир и усмирительный покой больших физических нагрузок, и не желает даже слышать о каких-то женихах и свадьбах, и сторонится, как неизлечимой болезни, вольных плаваний и абордажей — и всё это единственно в предупрежденье возможной оскорбительной измены! Она любви божественной, ослепительной и безрассудной, но и очень скорой в саморазрушенье, предпочитает земную, даже в чём-то приземлённую, но длительную связь, сплетённую из устойчивых симпатий, дружбы, службы, путешествий с другом, телесных нагрузок и всякого рода брутальных удовольствий… — из чего угодно, только не божественной любви.
Ох уж мне эта дружба! Маруся дважды, верно, предупреждая, дабы и я не ринулся к ней в женихи, едва мой настрой учуяв, с наивозможнейшей для себя теплотою в голосе и выражением зелёных мокрых глаз, и едва ль ни с ноткой участия, до истомы, говорила: «Онфим Лупсид, голубчик, умоляю, берегите нашу дружбу…» Я смелый: влюбляться не боюсь! Но Маруся любую кандидатуру ограничит дружбой. Где она в сегодняшней России видела дружбу женщины с мужчиной? На Западе — да, там случается скучная неоклассическая дружба. От неё российские мужчины, попав, например, за океан, премного настрадались и убеждены: белые американки уже не способны на здоровые межполовые отношенья. Вот, наш ухажёр-иммигрант к незамужней молодой американке подступает — и норовит сразу в закрома… Не тут-то было! У той, в нерабочее время, на уме себе: учёба, заседанья в комитетах, курсы, социальные нагрузки, «здоровый образ жизни» — и при этом дома кушает из тазиков и пьёт из вёдерок, а вне дома — поедает самоубийственный фаст-фуд, а в фитнес-клубе с первого на второй этаж поднимается на лифте, и в сауне, если с трудом затащишь, сидит в кроссовках и в халате с капюшоном! — ещё у неё всегда в делах недвижимость, пару дней из семи в неделю она просидит за рулём в машине, ещё платить налоги целая морока, там косметолог, адвокат, здесь же хлопоты с банковскими карточками, вырезание из газет и журналов купонов со скидками, шопинг за тридевять земель, уик-энды в тридесятом царстве, изучение рекламы, почта, опять курсы, накаты телесериалов, выборы, газон под окнами, клумба, любимая собака, кошка, рыбки, попугай… Это я ещё крокодила в бассейне опускаю! И, в жалком остатке, со страждущим мужчиной — только дружба! И то, в основном, по телефону. А если и стрясётся редкий секс, то в порыве страсти американка восклицает: «Это не хуже шопинга!» — и тем, с точки зрения русского, убьёт порыв. У них отношения в паре ведёт что угодно, только не любовное чувство. Главное: популярность, в духе американской мечты — пошлейшей и гнилой. А ещё для них важно: сходство статусов в обществе, общность интересов, отдадим должное — преданность и верность, совместимость характеров, шкурный интерес, секс — но исключительно как одна из рядовых процедур «здорового образа жизни», пресловутая дружба… — в общем, всё, что присоветует ей, сам всегда не вполне здоровый, психоаналитик. Но главное, конечно, популярность! Вот как за океаном устарели извращенцы. Эсэровщина чистой воды: делят народ на «героев» и «толпу». А ведь ещё Карл-наш-Маркс о себе, тогда уже великом, и об Энгельсе, друге-умничке и русофобе, писал: «Мы оба не дадим и ломаного гроша за популярность».
Из личного. Да, я близкий Марусин друг… В моей к ней исключительной приязни сокрыта ноющая рана. Есть здесь нечто от сопереживания и острого сочувствия лермонтовского служаки Максима Максимыча к простодушной Бэле, попавшей к сильным мужчинам в западню. Отеческий я друг Марусе — друг необыкновенный! И ещё что вы, участливый читатель мой, в характере вашего покорного слуги уясните — для правильного восприятья мемуара. Когда я наедине с Марусей или по-приятельски сижу с Патроном, то ловлю себя на мысли: оба они мне в чём-то недоступны. Они сияют на меня с каких-то невидимых, немыслимых вершин, почти из другого мира, куда мне никогда не суждено попасть. И тогда чувства зависимости и второсортности меня обуревают, я ропщу и негодую на самого себя: почему я не способен взлететь и стать вровень с ними, почему я не умею так манить и ослеплять? И в ряд с ними попасть меня безумно тянет, и перепрыгнуть через что-то не могу… Неужто все детдомовцы такие недоделки? Но мне, сколько от рожденья себя помню, соску во рту пластырем не залепляли, не привязывали к койке, препаратов не кололи… Я не гений, но способностей-то хоть отбавляй! И всё равно, как-то важных качеств не хватает…
Теперь замечу спецом для властного начальства: фанаты и боевые подруги, равно как и некультурные люди, могут надёжно управляться только с помощью их культов. Культ личности Сталина возник из восторга советского народа, освободившегося от эксплуатации. Ну как не восторгаться, как не кричать от радости, если капиталист и помещик тебя за человека не считал, а теперь ты имеешь 8-часовой рабочий день, бесплатное образование и медицину, пенсию на старость?.. Советские люди просто не умели по-иному выразить свою искреннюю радость. Сталин был собирательным образом расцветшей освобождённой личности, наглядным образом будущего счастья. Сталину, запрещавшему празднование своего 55-летия, говорили и писали с мест: простите, но у нас свобода выражения своих чувств, вы здесь ни при чём, не мешайте нам праздновать, мы не можем по-иному выразить свою радость, такова специфика малокультурный людей — это скоро пройдёт. Русским, в братском союзе с коренными российскими народами, уже пора устроить новую эпоху возрождения, только уже без имперских замашек, то есть без содержания за свой счёт бесчисленных дармоедов — хватит с них. Пораженчество должно быть под государственным запретом! Для архизанятого анфасного начальника, кто, понятно, читает мой мемуар одним глазом, не сочту за труд повторить ещё раз: новая культура есть новые культы, а значит, должны быть новые символы этих культов. В духе времени, видимым и осязаемым символами новой культуры могли бы стать не фельдфебель или генералиссимус, а, скажем, зверёк какой, спортсмен, поэт, герой… а по мне, так — прекрасная и жертвенная дева. Такая как, в ненавязчивый пример, пятиконечная звезда Маруся — редкостный сплав Марьи-царевны, Девушки с веслом, Орлеанской девы и молодой Софи Лорен. Дело говорю!
Моя Маруся — зримое воплощение образа Подруги безымянного русского солдата. Образа, считаю, возвышенного и полезного для российской армии и флота, но, увы, до сих пор не обретённого и не принятого на вооружение, в смысле — на вдохновение. Как взглянет дева такая — помирать неохота! Ну, как, боевитый читатель мой, как может воевать 18-летний парень, если у него даже образа подруги перед глазами нет? Кем-чем его бодрить? Ради кого-чего жертвовать ему собой? Как в нём возбудить непокорный бесстрашный русский дух, выковавший все наши победы? У российской армии нет сейчас ни ясного образа врага, ни любимого образа родины. Если война может начаться и кончиться в три недели, как успеть пробудить и мобилизовать все силы у русских воинов, спокойных от природы? Без образа Родины-матери кто будет стоять насмерть? Хороший натиск — и России нет, как за полтора месяца не стало Франции в сороковом году. За тысячу двести лет истории, будучи в массе никудышными профессионалами, начала войн русские проваливали и несли потери, и только когда появлялся опыт и закипала жажда мести за погибших товарищей, становились непобедимыми. А ведь в современных локальных войнах ненависти к противнику нет — палят издалека: в кого ты попал — чёрт знает, а кто в тебя… — уже не важно. В мировой же войне палить начнут совсем издалека, даже не разберёшь откуда: с других континентов, со дна океана, с космических платформ, с Луны, с планеты Заклемония и, дай срок, из космических «кротовых нор». В российскую армию нужно ввести образ подруги боевой, а не попа-вдохновителя на должность. Знакомый мой змий, протопоп Савелич: как только Марусю в подругах заимел да стал с ней по мероприятьям шастать, его влияние на десантников по экспоненте возросло! Десант стоит возле сиреневой рясы протопопа, а сам полным составом пялится на Марусину тёплую косу. Из одного мужского эгоизма протопоп не хочет своей подругой с армией делиться. Патрон, с моего наущения, сколько раз его просил: сподобь Марусю записаться в армию наймитом — деву-рожаницу возродим в русском стиле, вот выйдет нам поистине новое неслыханное слово в армейской идеологической работе!
Чувствительно задетый образом девушки с веслом, энциклопедист Патрон выискал текст византийского источника Григория Назианзина «Слово св. Григория об идолах». В нём упоминается мифологический персонаж, славянская богиня Мокоша. Дева Мокошь, по содержанию, из того же пантеона боевых античных дев-богинь, стоящих супротив православной Девы-Богоматери ― вечно сонной, скучной, никакой. Дева с вилами — образ рожаницы у идолопоклонников славян. И что Патрона особо воодушевило: Мокошь упоминается в источниках раньше всех других славянских богов, даже Перуна — вот каково было значение девы-рожаницы в Киевской Руси. Знать, народа уже в девятом веке нам остро не хватало! Патрон считает: русскому воину нужен образ родной жизнеобильной статной и зовущей Мокоши с вилами, как с веслом, а уж никак не протеже от церкви ― чужая Дева-Богоматерь с её виртуальным назойливым потомством. Вилы — это великолепный русский символ! Не уступит символу власти в древнем Риме — обвязанной пучком прутков секире. А по мне, Марусе лучше бы не армию, а гражданку бодрить и вдохновлять, начав с олимпиад и чемпионатов. Вышел бы из неё образ сильной и мирной Родины-матери, зовущей граждан в грядущий, не названный ещё начальством «…изм». Маруся — национальное лицо России, как Марианна — лицо-символ Франции. Подай как следует Марусю — и вот вам символ новой русской культуры с культом не имперского возрожденья наций. А то понастроили домов стеклянных в небо, а всякие уроды день и ночь тупят народ с экранов — и это у кремлёвского начальства новый «…изм»?! Всё чуждое и вредное для нас! Русский народ должен быть возбуждаем властью строго в направлении родных и полезных культов — через приобщение к достойным и понятным символам сих культов. Тогда начальство сможет добиться от народа конкурентоспособного труда, прилежания и всего прочего для общей пользы, и остановится, наконец, выморочность и оскудение страны…
Захожу тихонечко в приёмную. Вот она, моя Маруся! Великая девушка с веслом! При косе с жёлтого атласа вплетённой узкой лентой. Не будь этой ленты, сподобляющей косу в тигриный хвост, я б расстроился ужасно! Стоит Маруся у стола, ко мне спиною, чуть склонившись над своим волшебным немецким рюкзаком: укладывает в него стопку свежих простыней и полотенца. Поодаль своей очереди ждут другие предметы довольствия продуктового и вещевого: консервы, соки-воды, пакетики простеньких конфет и овсяного печенья, морская соль, спички, фонарь, топорик и нож охотничий в чехлах, бинокль, навигатор, столовые приборы, средства гигиены, медицинская аптечка… Войны нет, а запасают по-военному. Отдельно, я признал её сразу, лежит сшитая на заказ и выглаженная бандана на бедовую голову Савелича — чёрная, плотной ткани косынка, с большим красным серпом и молотом на поле в мелкую красную же звёздочку. В этой рокерской бандане, при чёрно-седой бороде по грудь и при усах, да в застиранной тельняшке десантника, да с ножом за офицерском поясном ремнём, внушительный и без того Савелич на пристани и в лодке выглядит совсем по-пиратски и фактурно — ну, просто капитан современного «Варяга»! Как увидишь защитника Родины такого — помирать неохота! Потом в большой наружный карман рюкзака Маруся всовывает несколько брошюрок — верно, популяризирующих церковь и нечитанных ею; берёт на всякий случай, для раздачи встречным-поперечным, дабы отвязались и не мешали паре отдыхать, а случись дождь — сгодятся на розжиг. Зная живой непоседливый характер своего друга, с этим походным рюкзачком Маруся не расстаётся никогда. Она как пионер всегда готова угнездить родное тело в свой видавший просёлочные колеи и ямы джип, когда-то ей подаренный меценатом спорта, и везти, куда друг прикажет, хоть на край света. Но пока что это всё больше окрестные леса, берега озёр и местных речек — обязательно с купанием, рыбалкой, кострами, шашлыками, песней под гитару и прочим баловством. В багажнике вездехода, знаю, уже размещены: резиновая лодка, снасти для рыбалки, раскладные стульчики и стол, шампуры, котёл для ухи и гитара-шестиструнка, на коей весьма сносно бацает Савелич. Я видел эту сцену: Маруся, возлежа у ног своего друга и впав в задумчивость, слушала, как он, приляпав четыре-пять стаканов освящённой в храме водки, не без слезы от избытка мужества, поёт… Чего ему не петь! С такою Берегиней ни в одной рыбалке не утонешь! Я не рыбак, но разбираюсь хорошо в русалках! Немецкая ундина дрянь — обязательно утопит; русская русалка, наоборот, спасёт…
— Маруся, здравствуй! Готовишься в поход?
— Онфим Лупсид! — Маруся, обернувшись, просияла и, с намокшим вмиг зелёным глазом, в три шага подбежав, обняла меня, с чувством прижала крепко-крепко к груди своей и задышала. — Я вас ждала!
О! Я, напротив, задохнулся, но мысль не потерял! Маруся, ощущаю, немного располнела: уже, может быть, и не прыгнет выше потолка. Нет, мысль потерял… Как прижмёт к своей груди такая — помирать неохота!
Пришло время вас, дотошный читатель мой, уведомить: с двумя-тремя близкими друзьями — я в их числе! — Маруся становится велеречива и непосредственна в телодвижениях и выражении чувств. Сия особенность её совсем не игривого в общем темперамента в воспалённом уме иного невоспитанного и не приближённого мужчины создаёт иллюзию лёгкой доступности девушки, а нередкие в нашем отечестве кретины и вовсе начинают подозревать отвязную многостаночницу в Марусе. Сколько на этом заблуждение оконфузилось «женихов», смешно даже представить, особливо, если, к примеру, выстроить их всех по росту голыми в один фронтальный ряд — на площади, перед непроймёнским всем честным народом! Маруся же ― разборчива в друзьях и на знакомства осторожна. Ещё она умна, ревнива, с другими горделива, и доступна только одному — всё, как в малоизвестном Пушкинском стихе!
Разговорились. Маруся, вижу, грустна и тревожна. Преподношу ей винтажную косыночку: зелёненькую, в жёлтый рисунок, под цвет волос и глаз, из натурального, понятно, шёлку. Не джип, конечно, но ей, вижу, до крайности приятно. Тогда целует меня в щёку лишний раз, приобнимает в половину силы, не сразу отстаёт: жмёт и томит… Вот подруга! Раскусила Бодряшкина вдоль и поперёк — и при встречах, как с угольком не остывающим, со мной играет… И пусть её играет! Я — к чёрту самолюбие! — счастлив до небес!..
— Слышала, — она, вполне владея лицевыми мышцами, поводит характерно бровью на дверь в кабинет моего Патрона, — вас хотят послать на городское кладбище: искать говорящую могилу — на днях объявилась. Десантники батюшки Савелия, чуть свет, уже там рыщут. Миноискатели, допросы посетителей, прослушка… — пока всё мимо цели. Теперь, Онфим Лупсид, надежда вся на вас.
— А на кого ещё?! — с достоинством задаюсь риторическим вопросом. — Говорящая могила! Её дабы найти, концептуально мыслить надо!
— Поедем на моей. Батюшка Савелий опять намерен улизнуть, — она запнулась и её глаза вдруг снова увлажнились. — Меня сбывает вам. Уж, принимайте…
— А сам мылится на богоугодное собиралово? Или на пасторскую службу?
— На приходскую. Сегодня службы в храме нет, потому что вчера была выездная служба на кладбище «Шестой тупик». Там и услышали от прихожан: разверзлась говорящая могила. А батюшка наш сподобился ехать утешать вдову: останки её мужа-десантника недавно нашли в горах… Тело много лет назад боевые друзья без гроба закопали, привалили диким камнем… Будь «мой» так закопан — приехала, рядом легла… Солдатские могилы не заговорят… А то бы рассказали, как гибнут лучшие парни без войны…
— Ну, за что гибнуть без войны ― начальство разберётся! А Савелич ехать к вдове обязан: по долгу службы, формальность соблюсти.
— Знаю я его формальности по этой части… Когда батюшка едет по долгу службы, так не пьёт и меня не отсылает.
— А уже запевали? — киваю на дверь, а у самого, признаться, на уме: я-то затяну с могилой на весь световой день, покажу Марусе свою метóду во всём блеске… Если бы сейчас пели, я услышал: Патрон трубит громче, но не лучше африканского слона.
— Уедем — запоют. Гитару отнесла, закуску подала. Дежурный офицер принёс своё. Пьют полтора часа, значит, литра полтора уже приговорили. Но вы не увлекайтесь: ехать на жару, в пыль…
Увы мне: такое пожелание слышу не чаще одного раза в десять лет! Ну, чудо просто девушка, а кому досталась! Держись у меня, богослов Савелич!.. На этот раз я к дискурсу готов! Не увлекаться — с лёгкостью моей Марусе обещаю и, окрылённый предвкушеньем счастья, что девушка со мной пробудет целый день, молочу по двери кулачищем и влетаю в кабинет…
Новелла о попе-десантнике
Чеканю пять шагов, застываю в струнке и, пристукнув высоким каблуком, — надел его, вы поняли, специально, дабы соответствовать Марусе! — рапортую, как учили:
— Товарищ женерал-полковник в отставке! Секунд-майор запаса Бодряшкин по вашему приказанию прибыл!
— Вольно, Бодряшкин! Проходи! — Немедленно Патрон отставил налитый по всем правилам с ободком стакан, выдвинулся мне навстречу, стиснул руку, хлопнул крепко по плечу! — Прикинь, Бодряшкин, ночью выхожу на балкон, подышать, на!.. Гляжу: у вечного огня цыганки воруют поминальные цветы, на!.. Вчера — суббота, цветов за день навезли целый воз — брачующиеся, на!.. А старая одна цыганозная карга ещё даже совалась в самое пламя сигарету прикурить, на!.. Я и дал им прикурить: взял своего Макарку и шмальнул боевыми ― чуть поверх голов! Вот племя, на!.. ― ничего святого! С миром приемлет единственный тип общения — с корыстной целью! Певцы наркоты. Стану генерал-губернатором — запоют у меня арестантские марши, на!..
— Так точно! С цыганами пора особо разобраться!
— Ладно: веселей, майор! Держи хвост колёсиком! А твой сегодня марш — на кладбище! Служитель, — кивает на Савелича Патрон, — не справляется, и мылится по бабам, на!.. Садись, Бодряшкин. Савелич, наливай майору!
С Савеличем — тот сидит в своей чернильной рясе — перекивнулись только: на бóльший знак приятельства в ту минуту я был ну просто не способен!
Пили водку. Савелич коньяк не принимал «как десантник», то бишь из чистого форсу. Он таскал к Патрону освящённую водку, по два-три ящика за раз, и возил продукт вдохновения только когда приезжал на Марусином джипе, дабы иные служители культа не увидели греха и верующих дабы не искушать на доносы в епархию: у них там слежка — не приведи господь! Закусывали стряпнёю от Маруси, а именно: разделанной селёдкой с луком в масле, огурчиком солёным, холодцом и телячьим языком в грибном соусе, посыпанным зелёненькой петрушкой, а Савелич, в перерывах, ещё пригоршнями в пасть швырял просвирки. Отмечу, как препаратор жизненной фактуры: в пост у служителя было почти такое же меню. Введённый в заблужденье чернильной рясой, я, пока не раскусил Савелича, всё, помню, удивлялся:
— Пост, а вы, батюшка, водку пьёте?!
— Она освящена в храме, значит, можно — по единой…
— Вкушаете мясо…
— Мясо постное, а постное тоже можно…
Не-е-е, Савелича насчёт выпивки-закуски даже шуткой не проймёшь! Он, сам здоровяк, да ещё регулярно живёт с брутальною подругой — такой в миг протянет ноги без скорóмного продукта. Да и какой дурак будет следовать длительному посту в начале весны, когда в России косит всех авитаминоз, белковое голодание и, главное, нехватка солнца, и оттого всех слабаков тянет поскорей залезть в петлю. Дожить бы русскому до солнышка и первой травки, а не поститься в угоду диетологам в поповских рясах — вот чему дóлжно в непроймёнской жизни быть. Пост придумали в Передней Азии, а там в марте-апреле всё уже цветёт-растёт, зелёная травка по колено и витамин прёт как на дрожжах. Но каковы попы: верующий человек должен вести себя как пленный, а сами служители грешат ежеминутно и без покаянья, оградившись от паствы за корпоративный частокол…
— Отправишься, Бодряшкин, на «Шестой тупик», на!.. — приступает, закусив селёдочкой, Патрон. — Там непорядок: из разверзшейся могилы не установленное лицо — точнее, Нечто — принялось критиковать здравствующее начальство, на!.. Пеняет ему от имени, якобы, загробного народа. Верно, полагает: терять мне нечего, чтó думаю — скажу, на!.. А это чрезвычайно важно: знать начальству свои узкие места! Ставлю две задачи: щекотливые, но боевые — тебе, майор, к таким не привыкать, на!.. Первая: обнаружить и картировать говорящие могилы, на!.. Уточняю: голос вещает то через одну могилу, то через другую-третью, на!.. Вторая: войти с этим голосом в соприкосновение, вызвать на откровенность, его новое неслыханное слово записать как показанье, на!.. Учти, могила говорит не со всеми, на!.. Полагаю: могила начальству не серьёзный оппонент, но нельзя допустить, чтобы по нашей халатности она смущала слабые умы, на!.. Говорящая могила вполне может оказаться новейшим типом подрывного агента, на!.. Оказаться хуже даже либеральной кошки! Конечная цель агентов — уничтожение России! Десантникам дана команда: случись что, помочь тебе, на!.. Навигация и спецтелефон для связи с десантом — у Маруси…
Впору загрустить мне… Нравственные авторитеты в стране ой как нужны, а здравствующий режим их не создаёт. Известные сегодня публичные лица в мучительных потугах тщатся, но, увы, не тянут на глас совести и вразумленья — разве что на голос из телеэкрана: выключил — забыл. Вот и докатились! Премьер-майор Бодряшкин, кандидатура душеведческих наук, едет на «Шестой тупик» внемлять новое неслыханное слово из могилы! Тьфу! Надо прояснить! Хорошо, Патрон уже включил кондиционер и разлил своим алмазным глазом по стаканам с ободочком — прояснили… Благо, думаю, на сей раз дали только спутниковый телефон, а не по картинке с орбиты за мною следить будут. А то при исполнении предыдущего задания я начисто забыл про наблюдающий военный спутник — и так неловко вышло!..
— Но по канонам православной церкви, — говорю тогда с калмыцким на Савелича прищуром, — прах человека тревожить никоим образом нельзя. Может статься, это не отлетевшая ещё от бренного тела обиженная кем-то душа глаголет, а мы собираемся её ловить?
— Ловят десантники, — возражает Савелич с армейской прямотой и верой не столько в хилого Иисуса и святые мощи, сколько в свою физическую мощь. — Ты же человек мирской: выслушай могилу с миром, запиши всё столбиком, а я архиерею передам.
Ага, опять думаю без всякого энтузиазма: вот и моя безымянная очередь пришла из-за кулис записывать чью-то речь, разве что не застольное неслыханное слово. Правда, этический выбор делать мне не нужно. Вы, граждански мыслящий читатель мой, сразу поняли: я выхожу здесь не тривиальный стукачок на болтуна, ибо говорящая могила есть не человек, а, скорее всего, бродячее мнение, к тому в тёмном подземелье. Савелич — десантник, а как усвоил поповские привычки всех «наущать»! Обидно: я атеист, а подставляет меня церковь! Последнюю фразу, кажется, ляпнул вслух — вырвалось непроизвольно…
— Бодряшкин, не кипятись, на!.. — живо реагирует Патрон. — У попов ложь — профессиональная болезнь, как у боксёров синяки, а у проституток — триппер.
— Навязывание церкви оскорбляет светские чувства атеистов! — восклицаю и давлю своим взглядом протопопа.
А неплохо сказал! Но Савелич, вижу, далёк от разговора: витает уже где-то подле заплаканной молодой вдовы… Он, молча, разливает освящённую в стаканы по самый ободок: себе и Патрону, мне же вливает полстакана — норму. Затем высоко поднимает свой сосуд к окну, вращает, ловя на глаз игру лучей заутреннего солнца, и становится как бы чуточку романтик…
— Нет, отец Савелий: Бодряшкин умней тебя! — берётся за стакан Патрон и встаёт. — Ну, офицеры, помянём погибших за Родину!
Встаём, без чока выпиваем — естественно, до дна. Крепко помня наказ Маруси, закусываю хорошенько телячьим языком с горчичкой. Как хотите, злоупотребляющий читатель мой, но водка из загашника в православном храме послабее коньяка «Суворов». Или я так не люблю попов, что мой организм даже градус, освящённый ими, принижает? Савелич уже не закусывает, если не считать просвирок: сидит грузно, как в чернильных сумерках гора. Почему, кстати, православные попы выглядят, будто вовек не постились? У нас — заметили? — все служители церковных культов какие-то ненастоящие, как, впрочем, и нищие на паперти церквей.
— Правильно: верь скорей не в бога, а в начальство! — продолжаю свою мысль уже вслух — опять вырвалось непроизвольно. — На это пятая заповедь прямо указует!
— Окстись, Бодряшкин! — Савелич даже придаёт строго вертикальное положение кресту на животе. — В пятой — речь о родителях: «Почитай отца твоего и мать твою…»
— Неправильный, батюшка, перевод — дословный, а дух статьи русским языком не передан! Это как нашу «женщину-общественницу» переведи дословно на английский, выйдет «публичная женщина». Дух пятой заповеди прямо не адресован к биологическим родителям, ибо, от Матфея сказано: «И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня».
— Выходит, что ли: «Платон мне друг, но истина дороже», на?!. — вставляет реплику энциклопедист Патрон.
— Так точно! — отвечаю. — Хочешь стать мудрым и нравственно совершенным — ставь истину, то есть Бога, выше любви к ближнему. Под «матерью» подразумеваются люди, равные Сыну Божьему, то есть мудрецы, ибо у Луки сказано: «Матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его». Следовательно, «почитать мать» — слушаться людей, кто более опытен, мудр и справедлив. А это ль не начальство?!
— Тогда, по-твоему, что значит «почитать отца»? — уже натурально бычится в меня красно-фиолетовый Савелич.
— Значит: беречь природу — кормилицу нашу. Под «отцом» подразумевается Отец Небесный, ибо у Матфея сказано: «…отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». У него же: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их». Вы, батюшка, по должности, «зелёный».
— Савелич «зелёный», на!.. — припоминая нечто боевое, смеётся во весь рот-фронт Патрон. — Гонял я шпионскую «зелень» в тундре, на!.. Будь моя воля, оставил бы их на стойбищах, в зимовье, отдал их своим лайкам — перевоспитывать трудом, на!.. «Зелёные» хуже кошек! Без государева ума и чина! Лезут в расположение заполярной части, с вертолётов, в мороз крепче коньяка, а мне их спасай от обмороженья, на!.. грузи на «большую землю», жги керосин!
— Неверие ведёт к сомнениям, а сомневающийся — плохой гражданин, — пытается вещать Савелич.
Но сегодня не его дискурсионный день!
— Сомнений ложка стоит бочки веры! — отражаю собственным афоризмом. — Легче верить, труднее думать. Даже ваш Иисус против слепой веры. Он прямо осуждает религиозного человека, ибо у Матфея сказано: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Христу по барабану — верят ли в него люди, судачат ли о нём, важно ему одно: исполняют ли они предписания Божьи, ибо у Луки сказано: «Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! ― и не делаете того, что Я говорю?» А вы, служители, хлопочете именно о вере прихожан да о болтовне про Бога, вопреки установкам Христа, ибо у Матфея сказано: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня».
— Тебе, Бодряшкин, одна дорога — в рай! — совсем уже бежит с поля богословской битвы поверженный Савелич.
— Почему в рай? — самому даже интересно. — А как же моё богохульство?
— Отставить рай! — тут же влез Патрон. — Бодряшкин, я тебя знаю, на!.. Ты в раю, от вечной благодати, заскучаешь, помрёшь второй раз — с тоски!
— Так точно! В раю должно быть скучно. Я бы предпочёл маяться в аду. На белом свете весь тот свет верующему мнится заманчивым и интересным. Но, по мне, интересен только ад! Будь я шумером, не стал бы строить Бабилонскую башню, дабы залезть по ней к Богу в скучный рай. Когда предстану на суд двуединого Бога-Дьявола, спросят: «Ну, расскажи, Онфим Лупсидрыч Бодряшкин, поведай о сотворённом тобой добре и зле». Ладно, если им там делать нечего, как только меня слушать, расскажу: то, мол, и сё… А в конце добавлю — спецом для Бога: «Твоих божьих тварей, синичек, лютыми зимами на своём балконе кормил свиным салом, овечьим курдюком, крестьянским маслом да семечкой подсолнуха из-под Ростова. Сало, замечу, несолёное подвешивал, свеженькое, дабы не отравились твари. Семечки не жареные сыпал, дабы запор у божьих тварей не случился. «Толстушки-веселушки» ― так соседи прозвали синичек на моём балконе. По редким выходным эти твои, Боже, толстушки-веселушки мне выспаться толком не давали: долбятся в стекло, поют оглашенно, дармового корма требуя, два градусника за окном разбили… Ну, Боже, оценил?» Тогда Бог, ангелам своим перстом указуя на меня, прикажет: «Этого, с квадратной головой, ― в рай!» Увы, черти на мой счёт отдыхают.
— Блаженны нищие духом, — вяло отбивается Савелич. — Ты, Бодряшкин, попадёшь в рай не за окормленных синичек, а поколику духовно нищ.
— Помню-помню эту глупость! Христос в Нагорной проповеди говорил: духовно богатым одна дорога в ад, а Царствие Небесное припасено лишь для духовно нищих. Каково! А как же духовные ценности, о преумножении коих толкуют все попы с телеэкрана и амвона? Сходите-ка сегодня с Нагорной проповедью в школу, в университет, в воинскую часть. Пошлют вас, батюшка, очень-очень далеко — с таким христовым дуализмом! Русский человек не религиозен — только суеверен. Религиозность требует больших духовных затрат, а суеверие — только знаний примет и правил. Русского человека сколько ни обзывай духовно нищим, он не склонен тратить свой дух на религиозность — вредную и очень затратную для него. Впрочем, и про нищих духом у православной церкви неверный перевод уже тысячу лет. Даже в Российской конституции таких откровенных залепух нет…
— Библию по канону переводили много раз, — огрызается Савелич, вздыхая и крестясь на окно.
— Переводили, да не правили. Вы как начнёте править, так сразу раскол — вот и боитесь искажения править. По канону не «Блаженны нищие духом», а «Блаженны нищие ради духа», то есть, блаженны отказавшиеся от имущества ради моральной чистоты.
— Значит, — вставляет Савеличу Патрон, — обирали верующих по уставу, на!..
— Так точно! «Нищие духом», кстати, отнюдь не означает «смиренные», как трактует наша церковь.
— Опять ты о мздоимстве служителей… — клокочет почти что про себя Савелич и вздыхает… ― Обиженный ты: в детстве сильно не доел…
— Да, не доел! А священнослужители ваши и не религиозны, и не суеверны, зато стяжатели — поспорят с олигархами! Ненавижу стяжателей всех мастей и мимикрий! Попы в России не пройдут!
— А ну, майор, — продолжает нагнетать Патрон, кивая на стаканы, — поддай-ка отцу жару, на!..
Когда поблизости Маруся, ревнивый Патрон Савелича почём зря гнобит — и сам, и, по армейской привычке в Заполярье, науськивает своих любимых лаек. И покусаю я Савелича, на!..
— Есть, поддать!
Разливаю: себе — последнюю. Выпиваем, а после занюха освящённой поддаю в сторону фиолетовой горы:
— Любая известная религии — идеология слабаков и маргиналов. В христианстве вопиющая маргинальность: люди отказались от своих отцов! Религия несёт, закрепляет, освящает рабство душ. Только протестанты смогли чуть-чуть цивилизировать христианство. Сегодня церкви — носители ценной, но неизбежно и быстро устаревающей культуры. Вот и вся их польза для людей. Кому, для чего нужна сегодня церковь? Только власть имущим нужно, во избежание протестов, дабы бедные люди хотя бы иногда стояли рядом с ними в одной очереди в храм божий: это снизит у бедняков остроту осознания социальной розни, остроту ненависти к дворцам и жирующим детям имущих…
Савелича побил сегодня! Но труба зовёт! Где ты, моя пятиконечная Маруся, награда победителю в дуэли?!
«Разрешите выполнять?» «Разрешаю! Держи хвост колёсиком, Бодряшкин!» Выхожу, стараясь печатать шаг и не отклониться по вертикали даже на освящённый в храме слабый градус. В дверях задним ухом слышу Патрона:
— Закончим, протопоп, некролог, на!.. Включай диктофон. «В лице усопшего народ потерял выдающегося наставника и командира…»
— Давай «православный народ потерял»…
— Отставить «православный», на!.. А волжских булгаров с башкирами куда?.. А куда безбожных сыроедов-чукчей?..
Новелла о заочном диссиденте художнике Козюлькине
Чу, слышу голоса! Впереди просвет. Я, востря глаза, ушки на макушке, осторожненько так выглядываю из стенки бурьянов…
Ба, вот картина! Шесть соток пустыря, утоптанного и слегка расчищенного от травы, явно недурным сценографом и бутафором превращены в театр на открытом воздухе! Не будь я прирождённый патриот, так взялся бы с дотошностью клевещущего диссидента описывать пустырь, как лес в Матерках, уж больно «живописен». Не живопись, а мерзость и позор! Горы мусора, проволочные остова сгоревших резиновых баллонов, россыпи грязных осколков битого стекла тускло отражают, мертвечина оголённых стволов клёнов, разбитые ящики и тряпки, вонь… — да ну! Если бы новый Гоголь сцену описал, вы, брезгливый читатель мой, с отвращенья, зараз перелистали страниц восемь, не читая. Представляю, с каким наслаждением голландцы, ценители средневекового пейзажа, смакуют наш позор!
На переднем плане возвышается, как трон, облезлое в лохмуты кресло с высокой слишком спинкой. Оно хлебнуло на своём веку и дождя, и града с ветром, и хозяйского обращения — сполна отведало судьбины дачной мебели, если мыслить шире. У ножки трона сидит, прислонившись безруким пустотелым боком, портновский болванчик дурной формы — старый и облезлый, он даже без глазниц. Вокруг трона в весёлом беспорядке набросана разноцветная скорлупка крашенных яиц пасхальных, якобы свежих — во, дурят иностранцев! — и поблескивают россыпи рыбьей чешуи — будем считать, леща и воблы. Перед этим как бы креслом жуткое кострище пионерского размаха. В кострище груды оплавленных бутылок, покрытых ржавой сединой мятых консервных банок, перегоревших костей, проволоки и гвоздей. Подле кострища, составлявшего безусловно сердцевину всей композиции пустыря, стоят на деревянных ногах три скромненьких щита из фанеры. Книзу каждого щита укреплена фанерная коробка с прорезью для пожертвований денежных купюр. На щитах убористые надписи о многих восточных и евро-языках, включая русский: «Дамы и господа! Я не бедный и ничего у вас не вымогаю. Здесь лишь проверка на широту вашей души»; «Сюда вносите пожертвования на изучение загадочности душ русского начальства»; «Крези-поминания! Закажите метафизическое поминание за упокой экзистенциональных душ». Мне ясно: здесь любопытствующего евро-посетителя «Шестого тупика» обирают немного тоньше, нежели у самих ворот.
В пяти метрах от кострища, пологим амфитеатром располагаются шесть рядов манекенов. Они, как толпа зрителей на трибуне стадиона, весьма разнообразны в содержанье и пёстренько облачены. Передний ряд манекенов размещён лежа на сырой земле; второй ряд, без ног, — сидя на чём попало; третий-пятый — стоя плечом к плечу; а фигуры последнего ряда возвышаются над самими бурьянами и будто норовят взлететь на небеса или, по меньшей мере, дотянуться поднятыми руками до нижних веток из куртины сухостойных клёнов, составивших как бы «задник» сцены.
О «заднике» скажу отдельно. Теперь из засады под транспарантом «Слава КПСС!» видны стали мне ветки и потоньше. На них рассажены — в натуральную величину — поделки пёстрых дятлов, сереньких ворон, грачей, сорок, воробушков, ну и двух белок. Птицы, замечу, все пустейшие в породе, а белка вообще грызун! Я бы, если что, рассадил учёных филинов, мудрых чёрных воронов и хищных коршунов-тетеревятников в компании с брутальными орлами — для облагораживания пустырной сцены. Птицы, чаю, сработанны из лёгонького пенофлекса: ветерок их покачивает и, трепля оперенье, как бы оживляет. Они застигнуты художником в миг созерцательный: пялятся, опустив головы, одним глазом в сцену, другим — в небо, и только сорока-белобока, водрузив на нос очки, читает, явно для отвода глаз, кулинарную, похоже, книгу. В двух манекенах, весьма немилосердно прибитых ржавыми гвоздями к стволам ядовитых клёнов, узнаю казаков из разъездов в Матерках. Они как-то выцвели пятнисто и облезли под кислотными дождями и от солнца. А один казак изрублен в хлам, с большущей дыркою во лбу и свисающим казацким усом. Тот прискорбный факт, что левый ус бодро, как полагается, с лихостью торчит закрученный наверх, а правый, отклеенный не по уставу, облепив глиняную люльку, свисает вниз уныло, придаёт лицу нелепое и страшно оскорбительное для казацкого рода выраженье.
Ну ясно — не пустырь, а сцена. Для «манекен-шоу». Странно: при всём несходстве в содержании паноптикум из манекенов по производимому впечатлению чем-то походит на статуи терракотовых воинов из Сианьского музея китайского императора Цинь Шихуана. Только безоружные ряды здесь стоят не в боевом порядке, а полукругом, вокруг кострища, и между рядами — широкие проходы для посетителей и техники TV, а вместо императорской конницы пасутся козлы да бараны, само собой, под зорким присмотром сторожевых двух волкодавов. Зато на ветках усохших клёнов сидят поделки птиц с разящими клювами, и этим зооразнообразием музейных экспонатов автор манекенов превосходит основателя династии Цинь.
Экспонаты здесь разделены не по принципу эпох или материалов и технологий изготовления, а по ранжиру «хорошие» и «плохие» люди: «хорошие» здесь — это, в большинстве своём, диссидентствующие творцы искусств, «плохие» — чиновники, само собой. Последние достаточно узнаваемы, но всё же не настолько, дабы юристам честь и достоинство задетого начальника возможно было защитить в суде. Ещё в музее не вижу тулова пустотелых портновских болванок, кроме одного, приваленного к трону, в роли придворного дурачка. У болванок много недостатков — фрагментарность экспозиции, статичность и анонимность, что недопустимо при работе с концептуальной одеждой. Здесь же портновские манекены изготовлены из стеклопластика или пенополиуретана, а эти материалы позволяют легко втыкать булавки и демонстрировать одежду и использовать манекены для пошива. Все скульптурные торсы выполнены в детальной лепке. Это вам не схематичное тулово, а настоящий торс с анатомическими линиями, в динамичных позах, с имитацией сколов, с окраской под мрамор или гранит и бронзу, с крепёжной фурнитурой. Заказчик должен быть доволен. Я понял: в мастерской сканируют тело состоятельного клиента, изготавливают его манекен и передают портным. Те хранят манекен, приобретая клиента на много лет, пока тот не растолстеет. Но есть и раздвижные манекены — для клиентуры, диетами себя не изводящей.
По бокам сцену замыкают белесые столбы. Это, надо полагать, столбы позора: закопанные в землю ошкурённые стволы всё тех же ядовитых американских клёнов. Неживописным и кривым частоколом они торчат на два-три метра из земли, и к ним прибиты самые отвратительные с виду манекены, в большинстве своём, мужского пола: все мятые, с побитыми физиономиями, иные лишены важных частей тела, а кое у кого выколоты насквозь глаза. Даже страшновато! Мне припомнились рассказы, как выкалывал народ глаза на бюстах и портретах Сталина в газетах и журналах… Очевидно: к столбам позора пригвождены креатуры местного начальства из числа неугодных авторам перфоманса сего. Там-сям на распахнутых грудях, на сутулых спинах и крутых лбах надписаны, весьма политкорректно, инициалы неугодных: «Ж.У.К.», «Х.А.М.», «Г.А.Д.», «С.В.О.», «Г.А.Д. Юниор»… Иных навскидку узнаю…
— Из непроймёнского начальства признаёшь кого? — щиплю тихонечко Марусю за бочок.
— Начальство мне без интереса. Одного узнаю. — И кивком указывает на сильно мятый и весь в трещинах манекен циклопических размеров, на глиняных, нарочито аляповатых и кривых ногах, в галстуке клетчатом, и почему-то с очень длинным тонким носом… — единственный во всём биеннале кондовый оммаж советским парковым скульптурам. — Это Пролом. Курировал губернский спорт. От нашей команды требовал взятки немыслимых размеров. Когда совсем зарвался, сел…
— На зону?
— На культуру — пересел.
Ну конечно, вспомнил! Но кто-то компромата столько накопал, что и с культуры быстренько уволили Пролома. Был «прорабом перекройки» — стал «новым бывшим». А недавно схоронили и забыли. Да, видать, не все…
— А о чём говорят?
На сцене говорили по-английски. Выступал Платан Козюлькин, известный в застольном Непроймёнске заочный диссидент и очный публичный скандалист. В пафосные моменты речи Козюля переходил на русский — это для картинки, а потом, при выключенной камере, уже под запись, старательно переводил трудные места. Сейчас ходили меж рядов «отраслевых» манекенов. Вот манекен-невеста весь… — лучше вся! — пышных форм и разодета в пух и перья: формы — даже очень… Рядом манекен для обучения спасения на водах — со счастливым выражением лица. Далее группка смазливых разнополых манекенов, одетых в симпатичные и чересчур открытые прикиды — эти, похоже, служат для обучения сексу приуставших от впечатлений европейцев; смазливые так привлекли голландцев, что те даже стали предлагать Козюле сделать клип и показать его владельцам секс-шопов в Амстердаме. Тогда подступают к пижону деревянному: вот самый здоровенный стильный парень и манекен практичный; лично мне нравится — такой вот красавец и должен стать женихом моей Маруси! За пижоном, тоже красивый, военного космонавта манекен: на служивого осталось только напылить скафандр из полимера — и лети себе на Заклемонию и Марс! Манекены для спортивной борьбы и бокса — они с упругим наполнителем и покрыты свиной кожей, армированы капроновой сеткой: их бей хоть о мат в спортзале, хоть об асфальт…
Отмечу, как наблюдатель жизненной фактуры: почти все «отраслевые» манекены выполнены в стиле «патологического реализма» с авторской bdsm-эстетикой. Даже невеста выглядит как только что из подземелья, где её, для чьего-то вящего довольства, немножечко пытали… А вот у манекенов «с человеческим лицом», то бишь у пародий на конкретных лиц, китч тяжеловат: для настоящего китча не хватило автору наивности во взгляде, а для немногочисленных барочных моделей — таланта. Некрофильский даже натурализм в иных манекенах я верно углядел: сказалось, видно, на Козюле соседство с кладбищем. У «чиновных» манекенов формы вполне пластичны, но выражения лиц могут вызвать рвотный спазм у неподготовленного отечественного зрителя, это в отличие от голландцев — те повидали всё. Авторские клейма у большинства манекенов стоят зачем-то прямо посредине лба! Выражаясь медицинским языком из интернета, у Козюли «гибоидная психопатия», а его манекены-чиновники, тот же Пролом, есть «шизофреническая продукция». Значит, правильно на Козюлю санитаров с носилками не однажды вызывали. Интересно, как врачи, блюдя инструкцию, подшивают образцы «шизофренической продукции» к истории его болезни? Вот, будь автор хоть немножечко наивен, его паноптикум манекенов был бы спасён: зритель сам себе напридумывал бы кучу смыслов и эстетик. Но, увы, натужный диссидент Козюля зело искушён.
Маруся, щипнув меня тоже за бок, удовлетворённо, в самое ухо шепчет:
— Здесь худеньких не держат. Все манекены без признаков анорексии: носят одежду не менее 46-го европейского размера, что соответствует 18-му британскому… Нашлось бы кое-что даже для меня…
Я тоже за крепких дам! Стань я художник манекенов, получил б медаль за вклад в борьбу с худобой моделей! Понаспасал бы с десяток тысяч дам от истощения… нет! — от голодной смерти! Вернул б худышек в лоно полнокровной жизни! Дабы кровь с молоком — и желательно рыжая или блондинка! Дабы плечи, бёдра, полная нога, упругость членов! Наляжешь на такую — не пищит и не трещит, как та доходящая модель. У моей — воображаемой — подруги всё должно быть гладко, смазано, подогнано в размерах, амортизация на должной высоте…
Козюля, по ходу сцены, кормит с руки пасущихся копытных манекенов: козлов, баранов, свиней и одинокого осла. Осёл, по-моему, ещё живой — верно, приблудился, сбежав от орды нищих цыган-люли из Таджикистана. Эти твари — не люли! — выступают у Козюли в роли положительных героев: рога у них не обломаны, рыла целы; даже у паршивеньких овец шерсть в клочки не щипана, золотым руном завита, а козочки весёленькие все, с крашеными копытцами и в бантах; ишак только весь в следах побоев — явно ветеран со Среднего Востока… Я возрадовался: плохих начальников раз-два обчёлся, а хороших — целые стада! Убеждён: хорошей скотины кликнуть — набегут ещё из бурьянов, где сейчас пасутся! Осёл, пожалуй, всё же, подкачал: выглядит неприкаянно, грива не чёсана года полтора и, верно, с самого рождения не мыт, весь под коркой серо-жёлтой пыли, на полхвоста висит колтун грязнючего репья, а посерёдке тулова копытный азиат перехвачен тряпичным, всё в махрах, седлом, съехавшим по худым бокам на живот, ближе к паху. Я не козёл, но ослов зачем-то презираю. Хотя, восточный читатель мой, охотно соглашусь: осёл неприхотлив, вынослив, дееспособен, кроток…
Облачён Козюля, ясно дело, в невиданный в европах затрапез. На нём живописные останки задрипанной хорьковой женской шубы — правда, ради зноя, без подкладки. Такую, простите, шубу любая уважающая себя моль даже за подарки грызть не станет! Из-под комковатой бахромы по низу шубы выступают ноги в офицерских, времён Антанты, брюках с галифе. Брюки заправлены в обрезанные сверху кирзачи времён очаковских и покоренья Крыма, чьи раскрытые носы со щучьими зубами настойчиво просят каши, сваренной хотя б и на воде. На руках белые кружевные митенки, только пальцы не все голы, а почему-то через один. Чёрные и круглые очки, как у профессионального слепого — для сокрытия, должно полагать, выколотых начальством глаз, сиречь пустых глазниц. Наклеенные брови, нарисованные синяки и глицериновые слёзы, парик кудластый, театральный грим… Внешний облик, в общем, тьфу! В ухе цыганской нет серьги — и на том спасибо!
В своей хламиде от кутюр Козюля выглядит вполне пиньдю́ристо и квóтно. Но заявляемая его внешностью протестность сверх всякой меры показушна. Так смотрится шахтёр в грязной робе и с кайлом на Красной площади в Москве, хотя до того, как затевать протест, Козюля уголь в забое смену не рубил и горькую не пил запойно. Зато вдохновенье явственно витает над маэстро! Он дирижирует и одновременно исполняет. По всему, перед объективом камеры вдохновитель и креативный куратор биеннале, акционист и провокатор, сторонник актуального искусства, и не чужд классик-перфомансу к тому же. Во всём типаже Козюли сквозит освоенная нынешним арт-миром высокая гламурная духовность и небрежный богемный стиль. Издали Козюля смотрится как злополучный лохудря́нец, вблизи же, уверен, окажется киногеничный антиметросексуал. Меня уже из засады бурьянов в образе Козюле убивают нарочитость, ложный пафос, грим… И слишком уж модные обноски. В иных ракурсах, однако, этакий мефистофелизм всё же усматривается в облике Козюли. Особливо если в объектив поймать его фигуру и на заднем плане медицинский манекен с разрезами дыхательных путей и с имитацией на сонных артериях пульса — аж налетают взбудораженные мухи и слепни. Если артиста по одной тени узнают, значит, есть у него индивидуальность. Козюля же даже в ошмётках хорьковой шубы и по короткой дневной тени вполне выходит узнаваем: признаю.
А лет Козюлькину, как мне, с полтинник. Вот он ставит наклеенные брови вертикально и для прилежных еврокиношников вещает:
— Я, как свободный гражданин мира, в полном сознании гражданского своего ничтожества в этой стране, заявляю протест…
Содержание протеста и вся эта пурга, какую бессовестно гнал Козюля, меня интересует мало — проходили! Посему на перевод усердной Маруси внимаю одним ухом.
Здесь, образованный читатель мой, вам я не пример: не знаю языков! Я не толмач, но просекаю иностранца по жестам, мимике и тону. Хотя саму иностранную речь воспринимаю как досадный шум. И как Маруся галиматью такую может переводить дословно?! Богатенький, однако, у Козюли арсенал казуистических идей! Да и словарный запас должен быть с избытком, дабы часами, не повторяясь, катить на интуристов муть!
— …Я, как художник манекенов, препарировал реалистический мотив, подвергнув его геометрическим и колористическим деформациям, — под запись льёт Козюля. — Принципиальная китчевость моих нарраций…
«Принципиальная китчевость моих нарраций»… — сам хоть понял, что сказал? Крепко же без руководства сверху подсел Платан Козюлькин на иглу постмодернизма! В четырёх словах — три иностранных, из них две трети непонятных. Зато где лезет из самого нутра — «моих», «моё», «я» — там на родном! Впрочем, «Я» на всех языках звучит гордо, разделяю…
— …Из моих последних ноу-хау: сейчас я провожу тренинги по манекенной пластике и пантомиме, обучаю группу артистов-мимов для Европы…
А, так вот что он всё прыгает, клубя пыль! Вот зачем жестикулирует, разевает шире надобности рот да строит рожи: готовит мастер-класс для евромимов! Это по форме, а по сути, значит, учит их кривляться на манер легко узнаваемых сатириков с нашего TV. Но те кривлянью — ой, простите, сейчас это называется раскованностью — сами научились у Европы. Замкнутый круг: где здесь, Козюля, твоё ноу-хау?!
— …Только на кладбище мне раскрылась суть местного народа. Вот где порча! Чем с таким бодаться, легче создать новый. Чтобы показать начальству этой страны, каким должен сделаться народ и как им управлять, я — специально для экспериментов — смоделировал народ. Спасительная мысль! Сколько же можно позволять российскому начальству людишек резать по живому?! Прежний народ уже наполовину, считайте, упокоен, а новый на ту же половину из страха не рождён! Когда я создал мастерскую и стал манекены тиражами выпускать, меня осенила гуманнейшая мысль: российский народ вот-вот физически закончится от этих над ним экспериментов и дешевле выйдет, если начальство перед очередной перестройкой возьмёт себе за правило на ком-то сперва потренироваться — чтобы потом не было обычной отговорки: хотели как лучше, а получилось как всегда. Чем вам для этих целей не народ? — делает Козюля изящный жест обеими руками и всем телом в сторону манекенов. — Все признаки народа: разнополость, разновозрастность, и сосканированы с живых людей, имеют содержание и форму, терпят боль…
— Манекены — боль?! — удивляется даже интервьюер, рыжий Гулливер-голландец, повидавший всё.
— Я оперирую, я лечу своих больных! Хотя мой больной смолчит, а не простонет, как с необеспеченным медицинским полисом русский бедняк в операционной: «Режь без наркоза — я привык…» Резня не должна остаться безнаказанной! Я уже собираю «великую армию отмщения» под землёй — хороню свой народ в секретном месте. В час явления Спасителя России моя армия встанет за его плечами и…
И этот паноптикум Козюля называет «мой народ»?! Послушать, так выходит: хотя Козюля и не начальник вовсе, у него есть тоже «свой народ» и даже «своя армия» — экое нахальство! Диссидент нагло позиционирует себя на Западе как анфасного начальника для своего народа. А с учётом, что западные представления о странных русских ― это сплошная каша без кусочков, они даже и не поймут, о какой армии идёт речь. Главное, у их сторонника есть армия, «армия отмщения»! Да сия идея мести уходит корнями в Ветхий завет, и совершенно противоречит русскому сознанию и духу. К чему, спросите, вся эта постмодернистская байда? Делаю осторожный вывод: Козюля за искомой неприкосновенностью хочет податься в депутаты Госдумы и щупает в европах почву — кто бы подбросил на выборы деньжат. А что, писали же: в Голландии уже и манекенам, как очередному «меньшинству», вот-вот дадут избирательное право! А тут целая армия за плечами дружественного Западу создателя «Новой России».
— …Манекены российских начальников имеют специфичные черты и лиц не общих выраженье, — Козюля всё продолжает гробить имидж государства. — Моё чутьё художника запротестовало, когда я типовым манекенам для ателье и домов мод пробовал надеть съёмные лица начальников из местной администрации. Архитектоника тел начальников, оказалось, статистически достоверно отличается от усреднённой типовой модели просканированных мной людей, то есть, отличается от подавляющего большинства, а значит от народа. Посадка головы, застывшая жестикуляция рук, остойчивость корпуса, вкопанность фундаментальных ног, крепость кулаков, большой рот с длиннющим, заплетающимся языком, пробки в ушах и при этом отсутствующий взгляд, а то и отсутствие вообще глаз — зеркала начальственной души — всё это делает российского начальника решительно неодушевлённым…
Маруся бесстрастно переводит, я негодую про себя: у Козюлькина всё начальство, выходит, манекены! Сейчас он безнаказанно коробит морфологию начальства, а не останови мерзавца, примется за анатомию его, физиологию, за сны, мечты, за государственные, может быть, секреты! Ну конечно: обсераешь, значит, креативен! Такому критикану нечаянно выпиши лицензию на отстрел пары-тройки забронзовевших профильных чинуш — уложит всё начальство без разбору! С советскими антисоветчиками управиться было просто, а вот что делать с сегодняшним нашествием козюлек? Запущу-ка я в гада половинкой кирпича, от имени всего анфасного начальства: так, чисто из справедливости, в качестве ассиметричного ответа…
— А в том… м-м-м… строении кто-нибудь живёт? — спрашивает Гулливер-голландец, повидавший всё. Он давно уже с большущим интересом посматривал на торчащую в рубеже поляны, у самой стенки бурьянов, низкую хибару, сбитую из ящиков и коробок и покрытую оплывшим на солнце чёрным толем. — Эмигранты-апатриды? Нищие?
— Бери повыше: бомжи, но в прошлом — доцентура! Столуются у моего кострища, когда я не при делах, а заодно и охраняют место. Вечерами, как нет дождя, в дискуссиях с ними я формулирую новые идеи, оттачиваю фразы. Работать доценты не способны, разучились, зато всему миру доказали: ум не пропивается за год. В общежитии у них произвожу ротацию: кто насквозь пропьётся, того изгоняю на поселение в кладбищенский овраг, в норы. А там долго не протянешь: холод и очень опасное соседство — мстительные псы и паразиты. Такова в этой стране судьба учёных, кто не успел к вам вовремя удрать. Сейчас мои бомжи-доценты где-то промышляют. Отхожий промысел — это, запишите, традиционный для России образ трудовой деятельности, и очень показательный: при нём начальство за трудящийся народ совсем не отвечает…
Гулливер:
— Простите, но я читал некого товарища Бодряшкина, он убеждает: начальство и народ в России вот-вот станут едины. Это не так?
Козюля:
— Заглянем в историю этой страны…
И ну здесь Козюля над вековым союзом начальства и народа изгаляться! Такую тираду учинил!.. О русском народе: рабы, фашисты, пьянь, свиньи, воры, ни ума, ни красоты… Властное же начальство во все века перемазано в крови… Отсюда неизбежный диссидентский вывод: русских не спасти, это цивилизованные народы пора спасать от безумных русских, а саму Россию нужно поскорее упразднить…
И даёт Козюля голландцам легко проверяемый мотив для устранения России: уже который месяц группы товарищей шныряют по «Шестому тупику» и на всех памятниках вдоль центральной аллеи, где иногда ходят иностранцы, перебивают даты рождения на более ранние, дабы подправить статистику, а то выходит: три четверти непроймёнских покойников-мужчин не дожили до пенсиона вообще.
Ну, кому когда рождаться ― начальство разберётся! Предатель! Я бы с Козюлькой в разведку не пошёл. Мало ли ради каких высочайших смыслов начальство перебивает даты! Козюля, хотя и — чисто их меркантильных соображений! — не свалил пока ещё за рубежи, он диссидент-профессионал, ибо кормится от критики российского начальства. С каким наслажденьем гадёныш выполняет заказы на издевательство и ёрничество над русским характером и русским образом жизни! Это в отличие от диссидента-любителя. Любитель не опасен и даже полезен для начальства: указует ненавязчиво на узкие места. А профи, пусть и заочник, лютый враг! С диссидентами пора особо разобраться! Дефо, автор Робинзона, ещё триста лет тому назад сочинил животрепещущий памфлет «Кратчайший путь расправы с диссидентами», в коем советовал властям Англии принять самые жёсткие меры против диссидентов. И я эту сволочь конкретно не люблю, как воркующих жирных голубей — летучих обсерал и разносчиков заразы. Вот не угоди Россия, к примеру, инопланетянам с планеты Заклемония или кому-то неощутимому из космических «кротовых нор», и диссиденты-профи, как цепные псы, кинутся интересы незваных пришельцев защищать. И при этом диссидент любит «не знать», кому рьяно служит! Убогость собственного мироощущения, всегдашняя готовность отринуть культурную память и традиции своей страны и продаться, лишь бы заплатили… Для таких мерзавцев понятие Родины — пустое. Это для меня, урождённого патриота и служаки, Родина — что мать, начальство — что отец родной. Просто смешно: на рубеже тысячелетий антисоветчики обернулись в антироссийщиков, утратив — вдумайтесь! — весь свой первоначальный смысл! Для этих людей главное заключено в приставке «анти». Это удобная позиция, с коей можно всегда на начальство топать ножкой, что так «плохо управляет», а в народ — плевать, что соглашается так «плохо жить». Это для них российское общество состоит не из нас с вами, незаменимый читатель мой, не из начальствующих и из простых людей, а из двух калек убогих: «немого народа» да «глухого начальства»…
Козюля между тем взялся пересказывать голландцам историю своего перфоманса «Сечение народа», нашумевшего некогда в америках-европах. Тот перфоманс, помню, случился в нашем застольном Непроймёнске ровно пять лет тому назад, тоже летом и тоже в воскресенье, на прогулочном городском бульваре. У Козюли был талантливый сообщник пионист-бугист Монти Хамудис с крези-командой музыкантов. В тот день своей музыкой бугист привлёк добрую четверть отпускного населения города и толпы иностранцев с экскурсионных теплоходов. На этом «Сечении народа» Козюля окончательно рассорился с начальством. К слову, многим известным в губернии людям Козюля солил оскорбительно и глупо. Разреши часа на два у нас дуэли, его мигом бы шлёпнули — по делу! — и сволокли на «Шестой тупик». Даже убогого кобеля во дворе своего дома Козюля как-то ухитрился оскорбить и унизить так, что этот пёс, с подмогой стаи, ему потом много-много лет мирного проходу не давал. Впрочем, был всегда Козюля без серьёзных политических загогулин, потому Козюле российский закон всерьёз не угрожал, как ваятель манекенов на рожон ни лез. Итак, под траурно-мощные басы фортепьяно, под убой десятка барабанов, под рыданья сакса, вой труб и визг ненавистных мне скрыпок шестьсот шестьдесят шесть манекенов, с закованными в бутафорские цепи ногами, с петлями намыленных пеньковых верёвок на шеях, с кляпами из брошюрок российской конституции во рту и всяким протестным реквизитом двигались колонной по бульвару. Конвойные акционисты — в основном, сторонники Козюли, интуристы и добровольцы из сильно подгулявшего народа — били манекенов рабовладельческими ещё хлыстами, лупили батогами почём зря, секли шомполами и прутками арматуры, «умников» очкатых ударяли по затылку томами комментариев к гражданскому кодексу, «писакам» ломали или отрубали пальцы, а заодно и кисти рук, «болтунам» рвали и отрезали по частям язык — и премного наотрезали языков! А одному горемыке сняли даже скальп, причём трижды! Непокорным самым манекенам, взятым из застенков, палач на крепком пеньке из вяза топором рубил головы напрочь — под «Марсельезу» от бугиста и сочувственные крики из толпы. Народ русский, я отметил про себя, жалеет даже понарошку обезглавленных «людей». Иные манекены, прощаясь с жизнью, обнимались, целовались. Другие — грозились: восстанем, мол, из черепков и придём по ваши души! Процессия была короткой: за три часа преодолели метров девяносто, и то далеко не все. Вдоль этого маршрута с полсотни манекенов акционисты подвесили цепями к уличным фонарям и стволам деревьев, что, по замыслу организаторов, должно было выглядеть шокирующе, как распятие народа на Голгофе. Другим, издеваясь, конвойные акционисты опрокидывали на головы встречные на бульваре урны, вываливая мусор, после чего, для дезинфекции, пострадавших за правду манекенов посыпали белым порошком, яко дустом. Потом начался массовый расстрел демонстрации слезоточивыми пулями… «Слезоточивые пули — разве есть такие?» — удивился даже Гулливер-голландец, повидавший всё. «В этой стране — для подавления — есть всё!», приняв позу, отвечал Козюля. Его израненный народ плакал натурально: он это воочию видел, и даже собственноручно рыдавшим дамам слёзы платочком утирал. А за процессией, скрипя и сигналя, полз эскорт из дружественных мусоровозок. В них Козюля со товарищи накидывали тулова не подлежащих ремонту — здесь читай: забитых насмерть — манекенов и от раненых отрубленные и оторванные части тела. По завершению перфоманса, расчленённых увезли на городскую свалку и там, скорбя и ритуально завернув во флаги триколора, сожгли в костре пионерского размаха…
Костёр, думаю, вышел дымным и вонючим совсем не по-пионерски. Таков был протест Козюлькина и примкнувшего к нему Хамудиса против… не помню уж чего: здесь главное не содержание — форма! Приглашённые загодя правозащитники манекенов отсняли «Сечение народа» для зарубежных TV, прокатили по америкам-европам, и перфомансисты не слабо заработали, обрели в глазах Запада статус диссидентов, а Козюля получил большие заказы на манекенов-манифестантов с функцией смены атрибутики, поз и лиц. Также из Голландии сексуальные меньшинства, коих давно уж большинство, заказали у прогрессиста манекены для своих сексшопов…
Главный же конфликт разгорелся от искры-диалога Козюли и Пролома, кой, представляя губернское начальство по линии культуры, прибыл для ознакомления с «Сечением народа» лично. Господин Пролом сначала вполне добродушно трогал цепи на ногах у манекенов: «Бутафория: даже не гремят». Белый порошок лизнул на вкус: «Мел: отмоете с мылом после тротуар!» Затем, взявшись за удавку на шее манекена, готового к повешению на столбе, спросил: «Шершавая: из чего вязали?» И тут Козюля вляпал: «Понятно дураку: пеньковая верёвка, значит, вязали из пеньков!» И ткнул телекамеру в окровавленный томатной пастой вязовый пенёк, на коем как раз отрубали голову особливо непокорному герою-манекену. И эти кадры облетели весь правозащитный мир! С того хрестоматийного ответа пошла их вражда и взаимное уничтожение. Диссидент во все СМИ вопил: художников преследуют со времён палеолита! Творцы каменного века забирались в самые труднодоступные места, отыскивали пещеры и на их незакопчённых стенах рисовали и гравировали — выражали своё видение мира. Незакопчёность стен свидетельствует о том, что пещеры были нежилыми и бесполезными для первобытного общества — только здесь и можно было творить без опаски художнику-диссиденту каменного века…
Итак, сострадательный читатель мой, вы убедились: Козюля суть талант, притесняемый начальством. Художник-интернационалист, то есть берёт со всех. Надоело! В России сложился неверный и вредный стереотип восприятия отношений между начальством и талантом: коль есть талант, он неизбежно притесняется начальством. Чушь! Я не берусь утверждать, есть ли у Козюли заявляемые им на всех углах таланты скульптора, дизайнера, художника в широком смысле, продюсера… Я не судья, но мнение своё имею! По-моему, в твореньях Козюли не более, как «что-то есть». Только несёт оно двойственное впечатление или, скорее, оставляет мутный осадок на душе. Уж, заявляемой автором великой пользы для общества «этой страны» в его манекенах точно нет! По форме, паноптикум Козюли есть голимый эпатаж в бессмысленной заявке дискредитировать начальство как институт и персонально, а по содержанию — оригинальный способ заработать. У него всё получается не красиво, не смешно, а как-то зло и политично. А зло и политику публика в любой стране не любит. Ну зачем вам, господин Козюлькин, столь усердно в русском мире сеять зло? Уже давным-давно вам в «этой стране» позволяют всё, разве что паясничать с манекенами служилых казаков у вечного огня мой Патрон не разрешит — пальнёт чуть выше головы из своего Макарки. Козюля, его послушать, шибко грамотный выходит. Но его политическая грамотность хромает на обе ноги. Будь даже наш талант сороконожка, не поймёшь: на чьей он стороне в многополярном мире? А гражданская ответственность, та и вовсе пятится назад. Талант же без ответственности, замечу, почему-то всегда источник зла!
Отвлечёмся… В самой иерархии талантов у нас царит беспорядок. Вам, глубокомысленный читатель мой, предложу своё видение: каковому порядку дóлжно быть. По дурной традиции, публично только и пекутся о талантах из области всевсяческих искусств. Собачий парикмахер — вот талант! Такую причёску крашеной болонке меж ушей завьёт, аж сердце стынет! Или вот талантливый поэт, а занят подённым каторжным трудом: Шекспира переводит (читай под строчкой: «Начальство зажимает!») — и ну крокодильи слёзы лить и причитать большими тиражами… Просто смешно! Талант — это судьба! А судьба — философское понятье, космос, вне бренной власти какого бы то ни было начальства. Сколько талантливых людей признавалось: не посади его властные начальники в тюрьму — не раскрылся бы талант на полную катушку. И главное усвойте: сами начальники суть административные таланты, и всяк с предопределенною судьбой! Заявляю: в России не было и нет таланта важнее административного! Это в крошке Дании, где снег выпадает редко, принц Гамлет, по государственной нужде, на мерина унылого по деревянной лесенке залезет и лёгонькой трусцой или даже шагом в три дня страну обойдёт, во все дела и пустяшные делишки вникнет — и примет административное решение. Выйдет у принца, допустим, плоховато: думал, по привычке, не о деле — о своём! Тогда уже без лесенки, слегка тревожась, взгромоздится Гамлет на сытую кобылу, та порезвей, и рысью страну объедет за два дня. Опять, предположим, получится не очень — бывает и у них… Ну, хоть не мужчина, а тряпка Гамлет, да только свергнуть могут за административную бездарность: тогда на боевого жеребца запрыгнет и уже галопом обскачет свою страну за один день — и добьёт вопрос. Всего делов-то с переделками — максимум неделя! Или взять Францию сегодняшнего дня. Она просторней Дании, по площади, аж в тринадцать раз, но в лесах все, без исключения, дубы пронумерованы, как в армии солдаты: попробуй-ка без разрешения свали хоть один ствол на бочкотару для вина — мигом обнаружат самовольную порубку и отыщут браконьера. А у нас, поди-ка, яко Гамлет, трижды за одну неделю из Москвы проверь, кто там опять от Аляски до Курил в окияне рыбу тырит? Туда в один конец добраться — поседеть! Или в Сибири, или на сопках Дальнего Востока отыщи тот миллион вековых стволов лиственниц и кедра, что китайцы за месяц увезли тайком? Теперь возьму талант колхозника. Вот вам механик из грязной, сырой, холодно-сквозняковой мастерской на краю деревни. Тот же Левша, светлая, по трезвому, головушка и золотые руки, он из ржавого металлолома, что когда-то было гордостью отечественных тракторных и комбайновых заводов, собирает нечто, на чём худо-бедно пашут, обрабатывают землю и посевы, и даже собирают урожай. Вот где талант, себе на погибель, но людям — каждому из нас! — несущий пользу трижды в день: в смысле, на завтрак, на обед и ужин. Это я ещё кутёж и полдник опускаю! Вот о ком должен печься наш администратор — в первую голову, а не о кутюрье с пропагандой не востребованных народом тряпок на плечиках недееспособных кляч и не о поэте, с его каторжным, сидячи на тёплой даче, переводом «Фауста», «Отелло», «Гамлета» и прочих заморских мужиков. Наш крестьянин без их талантов дутых проживёт «лих-ко!», а собачий парикмахер и поэт без таланта колхозáна протянут лапки вмиг. Итак, вот объективный пьедестал талантов для России: «золото» — талант административный, «серебро» — крестьянский, «бронза» — военный. Ну, почему бронзовому солдату место на пьедестале, думаю, читателю понятно: вот-вот зарубежные буржуи начнут подговаривать хантов и мансей выйти из состава России, дабы торговать газом «напрямую». А дабы из охотничьей берданки или ракетой с вечномерзлотной шахты защитить нашу тундру и океан за Полярным кругом нужен о-го-го какой талант!..
Чуть корреспонденты умотали провода и урылись в бурьянах, Козюля, по-бабьи задрав полы хорька и пятясь, устало плюхает свой зад на трон и застывает, опустив голову на грудь и сложа руки, точь-в-точь как на масонских портретах. Давая ему передохнуть, мы с Марусей, прижавшись боками, шепчемся чисто для себя… Я смелый: щекотать не боюсь! Но только собрался было щипнуть Марусю за бочок, тут у самогó на не осевшую пыль в носу защекотало — и как чихну!.. Козюля — вот расшатанные нервы диссидента! — в сильнейшем беспокойстве вскакивает, хватает со столика у кострища тарелку с горкой комбикорма и кидается к своему стаду. Тогда мы из бурьянов выходим…
— Здравия желаю! — говорю построже. — Чем занимаемся, почтенный?
— Как же, — выглядывая из нас врагов, гладит Козюля лохматого козла по холке, — окормляю тварей: по своему незлопамятству и доброте. Вдруг в эти твари вселились души чиновников, их тех, кто славно потрудился на ниве сеяния пользы для народа. А это, господа, какой, собственно, город?
И с тупым видом нищего протягивает к нам за подаянием чем бог послал бронзовый тазик, кой ловко выхватил из-под своего хорька.
— Ладно придуряться! — отрезаю. — Мы по делу.
Тогда Козюля отвернул вверх чёрные стекла на очках. Под ними оказались стёкла обычные прозрачные и небольшие выпуклые глазки. Прячет тазик под хорька и визитную карточку, всю в кренделях, с опалёнными краями и дыркой от «бандитской пули», подаёт мне, со смешком:
— Что ж, установим личности, как говорят, заполняя протокол, в дружественной милиции.
Я передаю свою, строгую, визитку: сотрудник ЖИВОТРЁПа!
— Вау! Так и знал! Опять передо мною креатура самопровозглашённой губернской администрации! Апологет чиновного беспредела инкогнито прибыл на места! В сопровождении удачного гибрида статуи Командора с рыжеволосой Венерой Боттичелли! — отвешивает он вычурный поклон Марусе, при том натыкается взглядом на мой каблук — и тогда издевательски фыркает два раза. — Нуте-с: опять чо-нить нарушаю? Здесь, товарищ Бодряшкин, примите во вниманье, не площадь перед окнами начальства Непроймёнской стороны, а пустырь. Он в честном и неоднократном бою лично мной и доцентами-бомжами отбит у собак-трупоедов. Место не публичное, забытое и богом, и огородником, и городничим, забывается теперь и зверем. Отсюда и могилка моя совсем рядом: выкупил на днях два аршина земли: уж дайте спокойно умереть! Или опять пришли травить?
— Мы — травить? — вскидывает презрительную бровь Маруся. — А есть ли в том нужда, любезный: в такой клоаке сами долго ли протянете. Даже любопытно: человек от искусства — и по собственной демонстративной воле шарится среди помоек, дышит запахом горелой резины, мочи, любуется собачьим калом, роется в мусорным кострище… И не тóшно?
— Это всё родные неудобства! Совкóвый навоз пережили — переживём и всё остальное.
— А в кармане ингалятор, — не унимается Маруся. — Приобретёте себе астму на помойке, а в Европе будете, не заикаясь, врать с экрана: российские власти гноили меня в сырой тюрьме. И будете клянчить себе медицинскую страховку. Видали мы таких!..
— Я понял: моя Венера столбовая совсем не в курсе обстоятельств. На меня уже с десяток раз санитаров с носилками вызывали…
— Санитаров — и что? — издевательски вопрошала Маруся. — Коль ваши органы не в порядке, почему бы ни вызвать на помощь крепких мужчин из казённого дома?
— Скорее ваши «органы» не в порядке: товарищ Абакумов в молодости был санитаром. Приедут, свяжут меня, обсыпят с ног до головы комковатым дустом просроченной годности — ещё, наверное, трофейным германским ДДТ, — всё под видом профилактики педикулёза, и тогда посадят на месяц в карантин. Так, по благородному, называется у них тюрьма. В лучшем случае, посыплют дустом хлорофоса, в нём действующего вещества — яда — меньше, чем в немецком ДДТ.
— Сегодня, значит, у санитаров с носилками отгул… Как на вас дуст не сыпать: вы принц из царства завшивленных бомжей и блохастых собак с лишаями.
— Крези, ну какие вши, какие блохи, лишаи?! Похвалюсь: ежегодно я минимум полгода работаю в Париже, Амстердаме, в Лондоне, Милане — в тех краях работается лучше, никто не треплет. Из-за посыпанья дустом я лишился доброй половины зубов, волос, интеллекта и состоятельных клиентов. Теперь, вот, брови клею и усы, тщусь поскорей, чтобы не забыть, записать мыслишку, если промелькнёт…
— Скорее, это возрастное, дражайший! Зеркало-то есть?
— Отнюдь: всё их, чиновьи, процедуры, — тычет мизинчиком в мою сторону Козюля. — Впрочем, перестали стражей порядка с дубинками и наручниками присылать — и за то мои аплодисменты. А вас, мадемуазель, я вчера на кладбище приметил… — И, уже несколько отухнув, с превеликим удовольствием осматривает, гадский пóтрох, мою Марусю с ног до головы, как музейный экспонат. — Витальны, слов нет! Надеюсь, русскую Венеру не смутят учебные разрезы на теле медицинского манекена?
Тогда уже с внушительною укоризной я вступаю:
— А ещё ябедничаете в просвещённую Европу на, якобы, инквизицию со стороны российского начальства! Будь у нас инквизиция, гореть манекенам в костре под смешки презираемого вами народа. А вы, хотя антироссийщик, а, гляжу, оптимистичны, веселы, надушены, с чистыми почти ногтями, будто на помойку явились прямо из салона. Каких бродяг-доцентов вы здесь собрались учить разрезами брюшины?
— Товарищ Бодряшкин, согласитесь: коль обществу так необходимо резать, лучше резать манекены — не людей. В аполитичном случае, ставлю вам в пример божественного Леонардо, безотцовщину из Винчи. Не обладая моим учебным манекеном, Леонардо, презрев инквизицию, словно мясник, вынужден был в анатомическом театре вскрыть собственноручно тридцать тел, прежде чем уяснил, как развивается плод в чреве матери. Представьте, каково чувствительному художнику собственноручно было вспарывать брюшину, вынимать зародышей на стол и рисовать?.. А в политичных случаях — вам напомнить? — обществам вивисекторов уже кладбищ не хватает: они тела зарезанных людей измельчают, скармливают или сжигают.
— Так устроены все мировые сообщества, пока не построим коммунизм. Общество, господин Козюлькин, состоит из начальства и народа. При любой резне доля погибшего властного начальства всегда в разы выше, чем в народе. Значит, начальство объективно, как структура общества, не может быть заинтересовано в резне. В обществах, как в семьях и в группах, резня субъективна. Как своевременно выявить в обществах и остановить субъектов организации резни — вот о чём нужно думать человеколюбцу! А вы, будто не творец, а робот, мыслите машинально: если чиновник, значит, сразу вешать дохлых кошек.
— Красиво излагаете, товарищ: будто сами не в чинах и не служите безумному начальству. Оглашу для вас воспоминания одного советского военного. Он осенью 1946 года побывал в Латвии. И один, тоже русский, старожил ему рассказал… «До 1939 года, когда прибалты жили самостоятельно, в Риге была одна-единственная контора ЖКХ. Если у меня что-нибудь не ладилось, я заявлялся в эту контору. Там сидела одна-единственная женщина. Она записывала в книгу мои фамилию, адрес и суть неполадки. Не заладилось у меня, к примеру, с газом. Женщина брала книгу «Газ», просматривала её и говорила, в какой день и час придёт мастер. И он обязательно приходил и, чтó надо, делал. Когда пришли ваши Советы, столько понаделали контор!.. На каждый вид услуг ЖКХ — контора. Придёшь в неё, а там сидят пять-шесть человек «работников», и не найдёшь нужного, а если найдёшь, то он пообещает сделать, но никто не придёт и ничего не сделает». Вот так! Российские госчиновники, как те, советские, тоже ничего не умеют делать, и не хотят уметь! КПД у них в разы меньше, чем в Западной Европе.
— На то есть объяснение. Производительность труда отраслевого российского чиновника такая же, как в соответствующей отрасли народного хозяйства. Чиновник в сельской местности работает так же, как наш крестьянин в поле: в десять раз неэффективней, чем в Европе. В угольных бассейнах и в лесных районах — в двадцать раз. В ЖКХ… Все на баррикады — драться за реформу ЖКХ! — как закричу я тут, вырвалось непроизвольно. — Это я о своём… Наш чиновник не оторван от народа — только и всего.
— В этой стране есть чиновники, а ещё в большем числе пасутся вокруг власти «непоймикто», получиновники, те, кто кормится на организации подписей чиновников. Гражданское общество выстрадало полезную оргработу со стороны государства, но чиновничество продолжает работать на себя. Даже поэты первой величины не могут обойти тему взяток российских чиновников: «Берите, милые, берите, чего там! Вы наши отцы, а мы ваши дети».
— Уточним: сиё «Внимательное отношение к взяточникам» Маяковский написал в 1915 году: к советским и олигархическим чиновникам стихотворение отношения не имеет — только к царским. А вы предложите своих чиновников не учить, а заменить на иностранцев?
— Чего бы и не заменить, если учёба никак не помогает? Спортивных тренеров сменили — результаты налицо. Да что безграмотный чиновник: в этой стране уже возрождается номенклатура! В «Беловежской пуще», помнится, новые отцы провозгласили: «Номенклатуры больше не существует!» Только глупцам кажется: умер СССР ― и не стало номенклатуры. Скоро, как в советские времена, пойдут приказы: «Обеспечить добровольное участие сотрудников университета и студентов очного отделения в осенних сельскохозяйственных работах в количестве 800 штыко-лопат…» Только работать будут на частного владельца агрохолдинга ― как правило, зарубежного владельца.
— Если уже не орут взахлёб о преимуществах демократии в управлении страной, ещё не значит, что возрождается номенклатура. Наши иммигранты утверждают: на государственной службе русские работают сами по себе не хуже, чем янки и европейцы, но условия труда у них разные. На Западе эти условия поколениями создавали и шлифовали. Либеральная западная мысль объявила Россию убогой, тёмной, неблагодарной, не заслуживающей верной и добросовестной службы. В результате пока что эффективность российского чиновника, действительно, объективно ниже. Но дай срок! На Западе люди по-настоящему пашут только на частных предприятиях, а в госучреждениях — такой же шалтай-болтай, как в России. И у нас народ пашет только в частных, зато и вкалывает круглосуточно начальство!
— Ой, не надо! Ваши чиновники равнодушны к судьбам Отечества и к нуждам людей. Достаточно сходить в паспортный стол. Откат от демократии налицо! В государственной власти этой страны опять появились «незаменимые люди». Поди, объясни, европейцу, что есть «незаменимый человек» во власти? Он этого не поймёт, хоть тресни. Скажет: Византия! У нас: раз попал в номенклатуру — тебя с чёрной БМВ на жёлтый «Запорожец» уже не пересадят. Сегодня у чиновников и депутатов привилегии, как у номенклатуры при Советах: казённый автомобиль, госдача, медицинское и санаторное обслуживание, бесплатная связь, бюджетная субсидия на приобретение жилья, специальная социальная страховка, своя пенсионная система… — всё и сразу! Если государство перед обществом ответственно, значит, и его чиновники должны нести персональную ответственность. А к вашему чиновнику с чем ни подойди, он только лапами разводит: «Рынок! Вот придёт эффективный собственник и всё наладит». Ты-то сам тогда мне зачем?!.
Отвлечёмся… Чем отличается чиновничество, бюрократия от номенклатуры? Они схожи по форме и функциям, но по социальному содержанию — как небо и земля! Чиновники нужны государству с любой формой правления. Они не имеют госпривилегий, они назначаются и увольняются, как остальные наёмные работники. Номенклатура возникает только при авторитарном и тоталитарном правлении. Номенклатура, как любой профессиональный государственный институт, очень эффективна: служивыми людьми движет обязательный для исполнения приказ, поощряется инициатива, и они в тяжких трудах костьми ложатся. В ответ получают для себя и своей семьи гарантированные государством привилегии и блага. Ответственность у номенклатурного работника куда выше, чем у простого чиновника. Особливо хороша номенклатура в трудные для страны времена войн, голода, разрухи и грандиозных строительств, когда нужно организовать работу мобилизационной экономики и обеспечить армию. Тогда номенклатура действует неудержимо и победно, как мощная в бою военная машина. Со временем, когда обстановка в стране успокаивается и нет нужды в мобилизации всех сил и средств, номенклатура закрывается и не «пущает» в свои ряды новых людей. Старую номенклатуру, увы, невозможно реформировать: она самовоспроизводится, родит себе подобных, а привилегии и блага не отчуждаются, если служил на совесть. Когда возникнет необходимость новой мобилизации страны, старую номенклатуру приходится заменять на новую — это болезненный процесс. Не все даже захотят идти в новую номенклатуру, ибо там ответственность за порученное дело велика, и нужно самому вынашивать и осуществлять государственные идеи. Государева чиновничья служба — это и особый склад мышления, годы воспитания и самоконтроля. Государственный муж должен отождествлять себя с государством, быть связан обязательствами перед народом. А чиновники, о коих долдонит Козюля, это попутчики из разряда «чего изволите» — они служат вышестоящему начальству и своему карману, а не государству и народу…
— …а люди-совки и теперь гнут хребты перед любым чином, — продолжает Козюля свою мысль.
— Стоять, господин хороший! — перебиваю, самому даже интересно, — а что есть, по-вашему, «совок»?
— Вау! «Совок» — это системное партийно-советское начётничество. Народ ему не верил, но безропотно, если не сказать охотно, подчинялся. «Совок» существует и в отношении церкви, и не только православной: в бога тоже не верят, но системно — рабски — подчиняются церкви. Кому из мыслящих и живущих свободно может быть по-настоящему интересен Христос, который даже «никогда не смеялся»?
— При «совке», однако, у нас было мощное и уважаемое в мире государство. Где оно сегодня — с вашей либеральной свободой, без «совкового рабства»?
— Главное — жизнь человека, а не государство.
— Пожелательно — да, по жизни — нет. Когда выше человеческой жизни ничего нет, то и родины нет, и нации нет, и героев с подвигом нет, прошлых и будущих поколений нет, идеалов нет. И даже начальства не должно тогда быть, ибо действия любого начальства — объективно! — это насилие над личностью ради блага остальных. И наступает философский тупик: если самоценная физическая жизнь человека ещё и самодостаточна, то утрачивается сам смысл жизни — ради чего, собственно, жить? Что родина? — так, абстракция. Если довести вашу самодостаточность до логического конца, то уже и не пожертвуешь жизнью за свою мать, за жену, ребёнка, друга, товарища, брата…
— Постойте уже вы, товарищ мой непрошенный: теперь могу и сам продолжить вашу патриотическую мысль: «А возродить Россию способно лишь страстное, всеобщее, героическое побуждение — и оно куда выше интересов и эмоций, царящих в отдельной человеческой жизни». Так?
— Естественно. А как одержишь победу в отечественной войне, если человеческую жизнь ставить выше родины? «Совок» — это, первым делом, нерушимый союз начальства и народа; «совок» победил в Великую Отечественную войну, отстоял внешнюю, по меньшей мере, свою свободу, и отстроил великую страну. А вы, господин проповедник жизни любой ценой, вы без «совка» стали бы рабом у германских нацистов; и какой из вас строитель — просто тьфу!
— Ваш «совок» невозможен без репрессий, значит он плохой.
— Репрессии в разумных пределах очень эффективны для скорейшего продвижения идей и достижения целей — это проверено историей всего человечества, не только нами.
— Не должно быть таких целей. А сегодня, товарищ Бодряшкин, разве есть поле для репрессий?
— Узкое, но есть: нужно очистить Россию от компрадорской элиты — и власти этим вот-вот уже займутся. Олигархи не связывают своё будущее с Россией, жёны и детки их давно уже спрятаны за рубежом вместе с капиталом, а на российской земле они только «промышляют», как тати в нощи. И «мировое сообщество» наши репрессии легко поймёт: даже собаки и кошки понимают, когда их наказываются по делу.
— Ладно, раскулачите и посадите зажравшееся аморальное ворьё, поделом, а я-то здесь причём? Почему и меня, художника — не мошенника, не вора — гнобят сегодня как при социализме? Нет, товарищ Бодряшкин: у властного либерального начальства осталось прежнее, «совковое», представление о диссидентах. Только к олигархам у них сложилось либеральное отношение: пусть себе воруют, мы ещё и поможем, а то чего доброго устроят заговор, скинут или так убьют из-за угла — с них станет; а вот на беззащитных критиков из недобитой интеллигенции начальники бросаются в штыки.
— Вы рассуждаете, как диссидент из слезоточивой творческой среды, я — как государственный политик. Человеку приходится жертвовать жизнью: так устроено общество, где есть понятия — родина, нация, народ. Оружие создано, дабы убивать, а организованно жертвовать людьми есть прерогатива государства. Революции делаются ради того, дабы в обновлённой стране ценилась именно человеческая жизнь.
— Идеологии, словеса, абстракции — полная чушь, а люди за них гибнут.
— А вас, господин Козюлькин, устроит только когда «люди гибнут за металл»?
— Беда, товарищ Бодряшкин, в том, что патриоты — и не только российские, нет, любые — патриоты любят родину отдельно от людей. У патриотов люди только необязательное приложение к родине. И не передёргивайте: либералы превыше всего ценят не жизнь человека саму по себе, а свободу человека, в том числе и свободу умирать.
— Ну да: проиграл в конкуренции за кусок хлеба, кушать нечего — и свободно подыхай на глазах у людей сытых. Человеконенавистнической у либералов получается свобода. Если, по-вашему, права человека выше интересов государства, тогда и права низкооплачиваемого, как он считает, чиновника разрешают ему залезть в карман государства и брать взятки. Вот и оправдание коррупции, с которой вы «боретесь» на пустыре.
— Человеку нет меры в материальном, вещном мире. Отсюда вытекает сверхценность его жизни.
— Человек состоит из звёздного вещества, он вторичен в отношении материи. Но родина, народ — это не вещи, а понятия. Человек — часть этих понятий, и здесь он первичен. В Конституции России объявлено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»…
— Вот-вот! — играет Козюля за шпиона. — А вы, товарищ Бодряшкин, толкаете антиконституционные речи. Может, подскажете начальству: пора внести поправки в конституцию?
— Я смелый: подсказывать не боюсь! Это неудачная формулировка законодателя, преждевременная — списали из западных конституций, из благих побуждений.
— Они и «федерацию», и «президента» слямзили оттуда. Какая федерация в исторически унитарном государстве? Откуда из русской почвы взяться президенту? Нанесли начальники чужих карантинных сорняков, а теперь визжат: не получается у них!
— Права и свободы человека не будут входить в противоречие только при коммунизме, а при капитализме они во многих случаях взаимно исключают друг друга. Говорить о сверхценности жизни при сохранении эксплуатации человека человеком — демагогия имущих. Свобода возможна только при равенстве людей. А какое может быть равенство при капитализме? Свобода раба на разовую скудную кормёжку — это не свобода господина на вековую праздность. Биологическое в человеке стремится к неравенству, социальное — к равенству. Капитализм возбуждает и усиливает в человеке биологическое начало, социализм — социальное. Когда социальное в человеке окончательно одолеет биологическое, наступит коммунизм. Исчезнут родины, народы, за которых сейчас надо умирать; не будет войн, денег, конкуренции за злосчастный кусок, и только тогда жизнь человека станет высшей ценностью.
— Ладно, я давно понял: благополучие муравейника дороже жизни муравья. Так в чём, товарищ Бодряшкин, ваше дело? Нет, угадаю сам. Принесли мне от губернской администрации чёрную метку, как у пиратов, или, пожалуй, протухшую рыбину в газетке, как у сицилийских мафиози. Угадал?
— На «Тупике» разверзлась говорящая могила. Ищем наводку. Есть идея?
— Вау! — Козюля, окончательно отухнув, просиял. — Учёная администрация пришла на «Тупик» искать заветную могилу, чтобы ночью пить на ней кровь чёрного козла и восхвалять своего владыку Сатану! Луна сегодня обещает быть хорошей, понимаю. Значит, «внутренние органы» интересуют мысли уже и мёртвых тел — очень любопытно… Новый сезон охоты на виртуальных ведьм открыт!
— У вас ус отклеился, начитанный вы наш, — опять язвит Маруся.
Чаю, не понравился ей господин Козюлькин. Девушка с веслом, как оказалось, тоже может язвой быть: пол своё берёт! Козюля и не вздумал обижаться, к наскокам попривык: он лишь выпячивает смешно верхнюю губёшку, поджав нижнюю, и опускает на неё глаза:
— Правый? Левый?
— Это, смотря с чьей точки зрения смотреть! — это уже из меня вылетает машинально.
Во времена застольных баррикад в умах, заслышав только словосочетание «правый-левый», я летел стремглав, дабы успеть выразить своё наинесомненнейшее мненье. Теперь с меня хватит: нет темы бесполезней! У постмодернистов-либералов, убийц всех смыслов, вместо идеологии — дизайн! А в дизайне «левый» и «правый» меняются легко местами.
— Господин Козюлькин, думаю, — говорит Маруся, — легонько всё же оправéлый, типа либерал.
— Верно, — говорю тон в тон Марусе, добивая гадину, — оправéлый российский неолиберал, то есть никакой. Для господина Козюлькина западный либерализм — сытная кормушка. Серьёзные диссиденты в России выбирают неолиберализм исключительно как кратчайший не уголовный путь к общему пирогу: нажрутся вдоволь, запасутся впрок и отвалят в консерваторы — жить потихоньку и в удовольствие своё.
— Уж в этой стране точек зрения хватает, — не моргнув даже глазом под очками, улыбается Козюля. — Зыбкость позиций такова: кто сегодня правый, завтра левый, а послезавтра… микст. А как дуализм-то во мнениях крепчает! По горизонтали все смещаются с позорной, в глазах Европы, быстротой и бессистемно. Зато с вертикалью, как всегда, всё в беспорядочном порядке: кто высоко вверх залез, до самого дна не упадёт. А чем вам не по нраву российский либерализм? Идеологически он же почти безвреден…
— В идейном плане, — продолжаю на диссидента наступать, —либерализм не понятен никому. Социализм понятен, нацизм понятен, фашизм понятен, либерализм же невнятен и даже намеренно запутан, российский особливо. В идейном плане западные либералы понятных целей не ставят, если не считать целями создание постмодернистского хаоса в сознании и неразберихи в умах. Наши же безыдейные неолибералы спецом погромче грохочут в барабаны, кричат, визжат, свистят, шумят, травят, спорят со всеми и без нужды противоречат, лгут напропалую ― и всё это дабы оглушить, ослепить, расстроить мысли и тем сбить со следа заслуженную ими погоню и предотвратить справедливое возмездие. Я думаю, путаность либерализма не от недостатка умов, а дабы труднее было либералов уличить. Ибо в практическом плане им, как и всем, нужны лишь власть и деньги.
— Вот и чудненько: вы согласились — идеологически либерализм России не опасен, — продолжает скалиться Козюля. — Стоит ли нас посыпать дустом? В конце концов, не тараканы!
— Либерализм опасен изощрённым воровством, мошенничеством, растлением, предательством национальных интересов, — говорю построже.
— На злодеев и расхитителей и в этой стране УК есть.
— «Что не запрещено, то позволено» — это либеральный принцип ловли рыбки в мутной воде, и попробуй нового злодея упечь с помощью нашего УК. При российском либерализме выходит: в школах не воспитывают, в университетах не учат, на заводах не работают, в морях не ловят, в лугах не пасут, в животах не вынашивают… — так и попередохнем все и без опасной идеологии. А в более узком смысле, господин Козюлькин, вы кто? «Наблюдатель»? «Лишний человек»?
— Или, худо-бедно, куртуазный маньерист? — добавляет Маруся от себя.
— Я не обсёрвер и, верно, не Пармиджанино-рус: куртуазный, но отнюдь не маньерист. Где, Фея с палочкой, вы видите в моих моделях намеренную неестественность форм? Хотя, как скульптор, замечу: безумному начальству как раз присуща саморекламная неестественность форм и поз. Где вы видите воплощение далёких от реалий идеалов красоты, одухотворённости и благородства, свойственное маньеризму? Всмотритесь: почти все манекены сосканированы с живых людей. Моим моделям впору выдать российские паспорта с чернильно-несмываемой пропиской…
— Говорите, как о народе… своего рода, — бормочу вслух, вырвалось непроизвольно.
— Вау! Мой респект вам! Полюбуйтесь: перед вами, действительно, народ — своего рода! Моделям чиновников, конечно, прибавляю типичные детали и, напротив, отсекаю лишнее — в этом смысл искусства. Взгляните на ту модель без головы: уверен, по очертанию тулова и прикиду товарищ Бодряшкин легко угадает в ней… Вижу, угадал. Всадник без головы — большая редкость: поэтому его сразу суют героем в романтическую книгу. А чиновник безголовый — типическое явление: здесь, как автор, я реалист, даже самому противно. По гражданскому же призванию, я скорее расплётчик сонма узлов лжи и правды, окутавших общество этой страны. Поверьте мне, товарищи, хоть один раз: здесь, на пустыре, в гуще своего народа, я наконец-то счастлив!
— Комедию ломаете, — не отступается Маруся. — Нашли место…
— «Шестой тупик» замечательное место! Здесь кладезь сюжетов и незанавешенная сцена для, буквально, толп разнообразных лицедеев! Традиционный театр всем надоел, зато на кладбище такие представленья!.. Вы на кладбище «Голливуд навсегда» бывали?
— Я бывала, — фыркнув, говорит Маруся. — Там лежат актёры, музыканты, писатели, поэты и, естественно, миллионеры — куда в Америке без них! Своеобразно: кладбище в равной мере для мёртвых и живых. Часто приезжают шумные экскурсии, тусовка, посетителям демонстрируют фильмы, разыгрывают пьесы. Не знаю как с этикой, но уныния нет.
— Вот и я поставил на «Тупике» уже несколько спектаклей похорон, — страшно обрадовался марусиной реплике Козюля. — Везите мне своих клиентов — гонораром поделюсь. Специфичных погребений становится с каждым днём всё больше. Особенно тащусь, когда перезахороняют прах богатых эмигрантов: меценатов, высокородных дворян или генералов белой армии. Похвалюсь! Недавно местные дворяне заказали мне нечто оригинальное, «в монархическом, понимаете ли, стиле», это чтобы потомкам столбовой эмиграции из Непроймёнщины в Европу навек запомнилось перезахоронение на «Тупике». Обожаю необычные проекты!
— Кто же их не обожает на Руси! — говорю, самому даже интересно. — Ну и?
— Слушайте сюда. Сценографию всего мероприятия сочинил сам. Фишка заключалась в столкновении русского характера с европолитесом. Для создание монархической атмосферы подготовил сотню манекенов в драпировке представителей дореволюционных сословий: духовенства с кадилами, чеховских мещан, дворян в звёздах и при саблях, купечества за самоваром, крестьян с косами и серпами, мастеровых в фартуках и пролетариев с молотами и цепями, даже трёх разночинцев с книжками подмышкой подогнал и, само собой, товарища Ленина с «рукой» на броневичке из фанеры, а в политкорректный противовес ему, выставил парочку членов императорской семьи. В прелюдии мой закадычный приятель и сторонник Монти Хамудис со своей оторви-командой музыкантов наиграл ретро-модные импровизации на траурные марши. Интуристы несли коробчёнок праха на подушке. У склепа произнесли вкратце речи по бумажкам, на ломаном русском. Никто, кроме манекенов, естественно, не плакал, не скорбел, не причитал; табакерку с прахом князя в склеп замуровали в пять минут, холостые залпы, венками гранит весь завалили… — и прочь от могилы: сначала в парк, проветриться, набраться атмосферных ощущений, а позже — в зал, поминать и расслабляться. Здесь бассейны надувные для них залили с живыми осетрами, натыкали кругом декорированные свечи, вывесили флаги царские, расшитые аляповато, зато чудовищных размеров, как занавес в Большом… Пусть расслабляются! Не работать же в Россию едут! Да и что им кукситься — никто и не поверит в траур: виновник торжества почил давным-давно, все к этому привыкли, слёзы, если были, высохли ещё в прошлом веке… В зале банкет с икрой и приличной выпивкой: все улыбаются, знакомятся, смеются, удивляются всему. А сквозное впечатление на лицах: вау! — как в России оказалось хорошо! У тамады мой приказ: в первый час гулянки тост провозглашать через каждые десять минут, во второй час — через каждые пятнадцать, а дальше все, кто выдержал, пьют уже без всяких понуканий. Как «рашн водка» холодненькой да под рассольчик огуречный поддадут «за упокой», вскоре переходят «за знакомство», мелодии становятся уже позабористей и публика, вслед за цыганами, танцует. Под занавес выставляем гостям толпу «ликующего народа», Монти бацает «Прощание славянки» — и аминь!
— То есть, — уточняю, сам удивлён, — приедет из Европы компания потомков от дворян второй волны, у одного в кармане занюханная ещё в позапрошлом веке табакерка с прахом князя, местные «дворяне» и попы их облепят, дабы свой ранжир поднять, а вы им подгоняете «скорбяще-ликующий народ»?
— «Их народ» — так многие из них, представьте, считают до сих пор. Народ, «олицетворяющий сермяжную правду». Сумасшедший дом! И на ЖД-вокзалах я этих «перезахоронцев» уже не раз встречал со своим народом: и декорации мои, и весь мой недешёвый винтаж интурист прекрасно различает, но охотно принимает, платит. Так принимает кинозритель вид Колизея, набитого доверху якобы людьми, на гладиаторских боях в голливудском фильме. Я устал твердить на всех углах и в микрофоны: во многих телодвижениях общества живые люди вовсе не нужны! Манекен гораздо технологичнее, дешевле человека. Ну, представьте, сколько миллиардов человеко-дней убили советские люди в показухе демонстраций! А манекены не допустят фальши в жизни. Они сами по себе. Мои манекены сродни кошкам: они проживают собственную жизнь, не претендуя на особое чьё-то внимание. А потомки генералов и князей всё, оказалось, на что-то претендуют! То им верни усадьбу, землю, то покрой убытки и верни проценты…
— Поздравляю! — как всегда, искренне возрадовался я чужому благоразумию. — Вы, господин Козюлькин, хоть в чём-то коммунист! При слабаках-царях русские дворяне сто пятьдесят миллионов своего народу держали неграмотным, бесправным, во вшах, в болезнях, в церковном мракобесии, секли, рвали жилы, издевались, сосали кровь, вешали на «столыпинские галстуки», попирали все без исключения правá, свирепствовала цензура и, наконец, в семнадцатом получили от своего народа по заслугам, а теперь им приспичило на историческую родину везти прах мучителей! И это без покаяний в преступлениях перед народом, едва устоявшим от их побоев! Что бесправные евреи и цыгане: даже первейшие русские купцы и заводчики — материальные строители России! — вечно ходили у дворян в разряде «чумазых». Крупнейшая монархия мира, а плясала под дудку Сопляка — такая мальчишеская кличка была у Гришки Распутина. Государственный долг Антанте в первую мировую войну — пятьдесят один миллиард золотых рублей. Вот Антанта и пришла потом свои кровные денежки у побитой дворянской России забирать. Хуже российского дворянства только польское и румынское. Не случайно русский дворянский титул сегодня может купить любой зажравшийся чудак…
Люблю общее мнение! Вот сошлись в оценке русского дворянства либерал-полуеврей и чисто русский патриот — уже мне как сладкий леденец к вечно мутному чаю в Сломиголовском интернате!
— Зато восстановленный Императорским домом боевой орден Николая Чудотворца, — продолжает, приободрившись нашим вниманием, Козюля, — далеко не сумасшедшие ваши чиновные генералы из Министерства обороны раздают направо и налево — подозреваю, сугубо на коммерческой основе.
— Вы это утверждаете: «Чудотворца» покупают?! — вопрошаю Козюлькина построже.
— Нет-нет! — взвивается тот сразу выше клёна. — Только подозреваю! Читал в интернете. Мне ли, калеке, утверждать: никакого здоровья не хватит в судах против всей вашей обороны…
— Диссидентский хлеб везде не сладок, — почти искренне сочувствую Козюле.
Мне космополитов немного жалко, как безродных кошек в подворотне: их свобода требует жертв. Но ближе к делу! Наступаю на Козюлю:
— На «Тупике» пляски на гробах имеют место быть?
— Пляски начнутся обязательно, когда тело Ленина вынесут из Мавзолея…
— Я не о посмертных политических расправах! На них, знаем, либералы мастаки: объявили нам войну до двенадцатого колена. Тотальная классовая месть: даже погосты наши не оставите в покое. Я — про метафизические пляски на могилах.
— Они мне совсем не интересны: я здесь зарабатываю на жизнь. Протест на вынос тела идола — это запоздалая реакция самозащиты организма исчезающего русского народа. Я, как человек мира, вам сочувствую, как вы — безродным кошкам.
— Время есть: ещё посмотрим, кто исчезнет раньше — русский народ или остатний мир!
— После инсульта от посыпанья ДДТ, — Козюля опять виляет в незаданную тему, — я стал почти что Ричард третий: не раз отнимались левая рука и правая нога. Тогда-то мой народ и окружил меня вниманьем и сыновьей заботой: навещал в больничной палате, устраивал на импровизированной сцене представленья, давал концерты, обнимал, тормошил и…
— Неужто и бодрил?!
— И бодрил! Один медицинский манекен женского рода даже массировал меня от пролежней, под ручки белые по нужде водил — и тем, уверяю вас, спас от инвалидности! В окружении манекенов я впервые почувствовал себя защищённым! Я понял больного Шихуана: к чему ему сдалась охрана терракотового войска на том свете…
Отухни, друг! Козюля, вижу, уже парит и, не останови его, начал бы кривляться, хамить в лицо и нагружать белибердой, как утомительный юморист с телеэкрана. Тогда спросил его о манекенах-казачках. Отвечает:
— В прошлом году заказали сразу казачью сотню. Заказ пришёл по электронной почте, от кого — не знаю. А на днях четыре десятка казаков привезли в ремонт. В таком… не в разобранном — в разбитом, даже в изувеченном! — состоянии я свой народ ещё не видел. Я вам, товарищи, не какой-нибудь чванливый русский дворянин: мне народ свой ужасно жалко. В моей непроймёнской мастерской изготавливают манекены для самых суровых видов спорта: борьбы и бокса. Спортивные манекены все обтянуты телячьей кожей и хорошенечко набиты. Почти такие же манекены, только с образами начальствующих лиц, срабатываю для установки в вестибюлях иностранных фирм: там их ждёт мордобой от кулаков и ног подчинённых, обиженных начальством. Тех и других манекенов при эксплуатации очень сильно проминают… Но казачков вернули как с Куликова поля: тулова и головы разрублены в куски, проколоты, измяты и даже — Sic! — со множественными пулевыми ранами навылет! И калибр не от Макарова и не от Калаша — взгляните…
Войны нет, а калибр знают по-военному!
Подходим к манекену казака поближе. Да, картина ещё та! Разглядываю вблизи, чтó натворили прусские партизаны, но военную тайну Козюлькину не открываю.
— Калибр МП-40, — вставляю со знанием дела, — немецкий автомат времён Великой Отечественной войны.
— Вау! Казачков в Германию, может быть, возили? Какие модели уже не подлежат ремонту — пустил на переплавку. А эту парочку увечных поставил здесь, как иллюстрацию моего тезиса: вот что стало с манекенами, а на их месте вполне могли оказаться и живые люди! На полусотню казаков снова получил заказ. Пожалуй, цену подниму. Дело тёмное, да мне не привыкать: по светлому пути дóрого не возьмёшь. Чем опасней дело, тем больше слава!
— Ставка. А оплатили казачков по безналу из бюджета?
— Как узнали?! Я сам, как увидал у плательщика бюджетный счёт, удивился так, что на всякий случай все налоги по сделке заплатил! Бюджет для меня чреват?! ― с неподдельным страхом вопросил Козюля.
— Чревато выйдет для заказчика… Искусство, господин Козюлькин, принадлежит народу. А вы заладили: «я», «меня», «мой народ»… Что, по-вашему, выходит: искусство принадлежит мне, только вы мне за это хорошенько заплатите и вознесите, как художника, до самих небес? Где содержание у вашего искусства? Один выкрик! «Мой народ»… Этимологию слова знаете хотя бы? Екатерина Вторая, к примеру, «моим народом» звала дворян, и дала ему дворянские вольности, освободила от телесных наказаний, сделала вечным и наследственным собственником своих имений. Любое начальство «своему народу» обязано чего-нибудь давать. А вы, господин хороший, чем осчастливили своих уродов?
— Позвольте возразить, товарищ! Это у «вашего народа» почти все люди недоделки. И лица у них куда страшней, чем у моих. Скорее, рыла классических скотов: не чистые и тупые — как у многих хрестоматийных героев чеховских рассказов. Ваша, товарищ Бодряшкин, принципиальная ошибка: представлять себе народ излишне романтично, плывущим вдали лебедем — чистым и прекрасным. Выйди он на берег, окажется гусь лапчатый и неуклюжий, с жалким видом домашней птицы, и примется истошно требовать еды и крова, и при этом густо обделывать дорожки! Когда народники в одна тысяча восемьсот семьдесят четвёртом году «пошли в народ», то есть в деревню, то искомого народа в ней просто не оказалось! Бакунин называл русского мужика «свиньёй безнравственной и добродушной». Явившихся к ним из города за правдой жизни молодых интеллигентов эти свиньи поразили своей полной социальной разобщённостью и бездуховностью, своим торгашеским духом, примитивностью личных потребностей, беспросветным фатализмом, безынициативностью и безответственностью, а главное: всегдашней готовностью превратиться из эксплуатируемых в эксплуататоров. Вспомните-ка рассказ Чехова «Добродетельный кабатчик»: барин думал, что бывший его крепостной, а ныне кабатчик, Ефим Цуцыков, благодетельствует ему, великодушничает за то, что он его сёк когда-то, и никакого злопамятства, — учитесь, иностранцы! — а этот вчерашний крепостной мужик сначала сделал барина своим должником, а потом через суд отобрал родовую усадьбу и выселил его на фатеру. Разве что-нибудь с тех пор изменилось? Откуда в один миг на голом месте взялись олигархи? Кем до переворота был олигарх Сироцкий? Рядовым советским крепостным, доцентишкой — в Московском лестехе, в Мытищах, студентов учил как фанеру клеить. Одни доценты стали миллиардерами, другие — вон, в сарайчике, у меня бомжуют. Кто из вчерашних коммунистов разбогател, вмиг из гонителя фарцовщиков и спекулянтов почувствовал себя сродни помещику и дворянину, капиталисту или ростовщику — стал узнаваемым эксплуататором трудового народа, заменил собою советское государство, только в отличие от него не принял на себя никаких обязательств перед эксплуатируемыми. Так что напрасно вы, товарищи, всё тщитесь засеять народную ниву хоть чем-нибудь благим: почва-то бесплодна! А мой народ, я многого не предлагаю, примите как наглядное оружие агитпропа на бессовестных чинуш, на всякое безумное начальство. Или, вы мните, верхи уже работают над улучшением жизни у низов?
— Постыдились бы ёрничать, мусьё Козюлькин! — вступается за «низы» Маруся. — Поди, шляпу носите, гуляя по Парижу! Ваше тенденциозное разделение действующих лиц на овец и козлищ, — она, копируя Козюлю, неожиданно сделала одними руками пластичный жест в сторону манекенов, — чуждо настоящему художнику. Кривляетесь и в чувствах, и словах! Корчите из себя того, кем не являетесь. А это уже пóшло!
Ни разу я не видел свою Марусю такою разъярённой! Подозреваю, ею овладела ревность и негодование на всех мужчин: ведь именно в это время Савелич уже должен мылиться к намеченной вдове.
— Венерочка моя!.. — пытает втиснуться в отлуп Козюля.
— Вы позорите искусство!.. — кипит моя Маруся.
— Я новый передвижник!..
— …Жалкая ехидна! Великое искусство, конечно, не убавляет в мире даже пустяшную несправедливость, но всё равно: вы, если назвались художником, если имеете призвание, вы должны стремиться… Да ну вас к!..
— Умоляю, крези: посетите мою персональную выставку манекенных реконструкций — там вы найдёте пусть не великое, но с ваш рост высокое актуальное искусство, мамочкой клянусь! А здесь, на пустыре, гольный спецпаноптикум: верная кормушка от богатеньких евробуратин — кушать булку с маслом и с икоркой художнику тоже хотца! Пропитанья ради, в игре «Кто прав, кто виноват» блюду их правила, иначе не заплатят. Да и российской публике тоже давно нужны гламур и лёгкий дискурс, а не боевики да ужасы…
С последним охотно соглашусь. Славянский характер слишком восприимчив: жестокие сюжеты поражают воображение русских и легко находят себе безумных последователей, а сие чревато. Нам бы прививать в сюжетах то, как не ломать, а строить, как не бить и убивать, а ближнего любить, и… — ну хотя бы как немножечко счастливо пожить.
— А ведь мы с вами пара! — вдруг заявляет гад моей подруге в самое лицо.
— Просто новость дня! — вскидывает бровь Маруся и, с ухмылкой и издёвкой, уже сама оглядывает Козюльку с головы до ног и обратно.
— Вы сами молодая, а, судя по значку на чудном бюсте, как и я, тоже ради пропитанья и славы крепко-крепко подставлялись… И, замечу, крези: я от российского бюджета не отъел со стола у вашего народа ни на копейку — всё заработал своим пóтом, кровью…
— Желчью… — вставляет опять Маруся. Ну, явно не пришёлся на дух ей Козюля, и она его забивает, почище очередного «жениха». — Ехидна не раскается никогда. Вы, верно, даже не осознаёте, как вас противно слушать! Мужчина тоже мне… «Кто прав, кто виноват» — этическая категория, она вне пропитания и славы. Совести в вас нет! Да, я себя не щадила, подставлялась: служила своей команде и своей стране — продавала им здоровье, но и дарила душу. Вы же служите чужим — и им продаёте душу!
Да, моя Маруся — настоящая Свобода с флагом: стоять на баррикадах будет до конца! Как в ней это сходу угадал тот подвыпивший сопляк, трубач из консы?
— Сейчас для русских разделение «свой-чужой» важнее, чем «кто прав-кто виноват», — говорю: вырвалось непроизвольно. И, подбодрённый Марусиной атакой, вопрошаю иронично, взгляд метнув на крону той коряжистой сушины, где реет алый транспарант. — А с чего бы заочному диссиденту славить компартию Советского Союза?
— Я — компартию?!.
Козюля, когда бы ел, то поперхнулся. А так роняет очки на самый кончик носа, поверх их пялится в меня и театрально, с утробным звуком, сглатывает, гадина, слюну:
— Ну, товарищ!.. Славлю я попа Савель Савелича. Он вчера на кладбище службу правил, в своей церкви. Такие откалывал номера!.. Врущих ноты и всякого нерадивого певца из хора псалтырём в медном окладе бил нещадно по склонённым головам. Ой, грозен протопоп, но и хитёр, каналья! Подозреваю: спрятался в попах, чтобы на зоне срок не пришлось мотать…
— Ладно, не Союз… Савелич… — мямлю.
Увы, увы мне: изумлён прозорливостью Маруси. Вот где пропадают кадры!
— А что означает, тогда, «К»? Коммунистический?
— Скорей, казённый. А может быть вполне и кабацкий, казарменный, казематный, казнящий, каннибальский, карьеристский…
Козюля продолжает перечислять, а я думаю: это только буквы «ка»! Ничего себе, словарный запас у диссидента! Я всегда удивлялся: почему диссиденты и неформалы безупречно знают русский язык, а резиденты и формалы едва бредут? И, заметьте, все «ка» вполне по делу, касаемо Савелича. Чу, а слово «канонический» Козюля пропустил.
— Так, ведь, на кладбище нет церкви! — наконец, опоминаюсь я.
— КПСС её с собой привёз…
И тут Козюля, в красках, вот что рассказал… Вчера, в субботу, едва он с утреца подвёз сюда на фуре и разгрузил свой народ, в ворота кладбища проехали шесть военных грузовиков с номерами гарнизона. Заинтригованный Козюля, предчувствуя спектакль и неизбежный местный «хъюмор», а то и целиком «сатирикон», оставил манекенов на своих бомжей-доцентов и ринулся в погоню. Колонна остановилась на асфальтированной площадке у перекрестка главных аллей — единственной на кладбище как бы площади. Солдаты, все зачем-то в камуфляже, вытащили сложенную по частям из прорезиненной ткани надувную церковь, подсоединили шланги, и часа за два компрессорами от грузовиков вздули шатёр церкви выше тополей и американских клёнов, с куполом, но без колокольни, растянули сооружение на тросах и укрепили грузом, дабы не снесло вдруг ветерком, оснастили алтарём, убранством всяким, установил gif-иконы… — РПЦ докатилась наконец до хай-тека. Неладно только с колоколами: звон давали в фанере из старых армейских динамиков. Зато был живой хор.
— Ваш протопоп-десантник, — зажигает далее Козюля, подмазываясь под мой ритм, — клеймёный неофит, лис, обернувшийся монахом, как на японской нэцкэ девятнадцатого века, герой в сатирический патерик, только чтобы прописали облик неоклерикала не в жанре шутливых фацеций, а в суровых канонах социалистического реализма. Вот смеха было бы! Сдавал, наверное, с божьей помощью, научный коммунизм в военном училище, звёзды от одного начальства получал, теперь служит другому, держа в уме первое. Постукивает, небось, ваш батюшка начальству: привычка, она сила! Такие новообращённые попы всегда кормились от исповедальни коленопреклонённого народа.
Савелича узнаю: походную вздул церковь! Пригодилось армейское умение накачивать плоты и мосты для переправы. Так и Марусю, как римского легионера, приучил всё брать с собой. Только можно ли церковь с надувными стенами почитать за божий храм — традиционное место встречи живых и мёртвых? Что же тогда в этом храме Савелич не услышал искомый голос из могилы? С церквями пора особо разобраться! Козюля, в восторге от такого биеннале, в мероприятье тут же влез. Разглядев у КПССа красный в фиолетовую сетку нос и отёчные мешочки под глазами, он посоветовал установить на входе в храм манекенную женскую конструкцию — «Она плачет о вас». Идея такова: слезы из дешёвого, но освящённого красного вина — залитого, само-собой, от щедрот продвинутых меценатов надувного храма — с бодрящим плеском, в две струи, льются в стоящую у самых ног Плачущей дубовую кадушку, откуда все желающие, черпая стилизованными а-ля-рус резными из липы жбанчиками и, если душа жаждет, литровыми жбанами, могут сколь угодно на дармовщину причащаться. Само собой, посещаемость храма резко возрастает…
А то! Пить во время службы — ещё дохристианская традиция. Сомма — смесь алкоголя и лёгких опиатов — применялась в службах огнепоклонников. Такой смесью можно не просто задурить толпу, но полностью лишить её человеческого облика и в итоге уничтожить. Приученная к наркотикам толпа стремилась на такие богослужения. А когда её лишали подношений соммы, страшно возмущалась. На злоупотребление соммой указывал ещё Зороастр, но это бедствие свойственно не только огнепоклонникам, но и христианам. Церковные службы ранних христиан сопровождались дружескими застольями прямо в церкви. А кровопролитные гуситские войны в средневековой Европе велись за право пить вино причастия рядовыми прихожанами. В некоторых апокрифических Евангелиях Христос прямо критикует официальную церковь, призывая отринуть опиаты и ограничиться вином. Так что Савелич действовал в русле рекомендации Христа.
Здесь я насторожился и стал в позу боксёра-манекена: сейчас этот урод в хорьковой шубе предложит, как модель для Плачущей, испробовать Марусю! Но у Козюли, как выяснится позже, на Марусю созрели уже совсем другие виды…
— А чтó не вступили в жидкие ряды правозащитников? ― спрашиваю в лоб Козюлю. ― Всё-таки халява, да и интервью давать не на помойке…
— Я, признаюсь, лез. Лез-лез, да быстро от кормушки отогнали. Халявное корыто обложили такие столичные рыла!..
— Тогда чтó не подались в эмиграцию? Вы же урождённый диссидент.
— А в эмиграции сейчас личности мельчают. Вот мой папа: в России был большой и длинный Каценеленбоген, в Израиле стал малюсенький, короткий Кац. В Непроймёнске был известный дантист — всему начальству зубы правил и челюсти вставлял, а там уже тридцать лет на пособиях в ничтожестве живёт…
— Плохим дантистом оказался, — ухмыляется Маруся. — Никудышные спортсмены такие же: возомнят, уедут за кордон, и годами на лавке запасных сидят. И у всех в печёнках — вирус Смердякова. Чем вам, отщепенцам, в России русские-то не угодили? Питаетесь от нас…
— Правильная нация одна: «хороший человек», — рисуется Козюля. — Сравнительную оценку наций должна сменить этическая оценка индивида. Хороший человек — ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Я еврей не настоящий — по отцу, а в натуре… — так, крашеный блондин.
Уже и у евреев отцов нет, думаю. Вот напасть!
— От рожденья, я Гуня Каценеленбоген. Взял новое имя и фамилию матери, должен стать Платон Казубкин. Звучит? Звучит! А баба-капитанша с УВД записала в новом паспорте: Платан Козюлькин. Из греческого имени сделала греческое дерево: у неё в Греции не только «всё есть», но и называется всё одинаково. Кинулся менять — «Нет бланков паспортов: Госзнак в прорыве». А у меня тогда срывалась важная поездка за рубеж. Взял загранпаспорт на Козюлькина — и всё! Когда через год вернулся и пошёл менять, ко мне с подозрением вопросы: живём под двумя именами? следы заметаем?.. И тут, как я вычислил, Пролом включился и не давал выправить фамилию… Я даже опасаюсь: вдруг востроносый Пролом, как Пиноккио, оживёт — идти-то ему сюда с кладбища два шага. Он и сегодня меня душит руками Пужай-Сороки — проломное отродье! Вот, полюбуйтесь на моего палача!..
Ну, кто чьё отродье — начальство разберётся! Ладно, подходим к манекену аляповатого Пролома. На макушке у того сидит, как птица, пожарный маячок с рожком-сиреной. Козюля со всего размаха, в самый толоконный лоб, влепляет Пролому чувствительный щелчок: и тут же сирена взвывает истошно и капризно — в тонах сущих мартовских котов… Нет, и мои нервы уже совсем ни к чёрту! Полминуты воя под жестикуляцию Козюли — и я Марусиной битой, кажется, готов был проломить башку Пролому, только бы замолк! Художник же, насладившим впечатленьем, пресильно бьёт ногою своей жертве прямо в пах — и сирена, кривляясь нотами, начинает затихать. Тогда автор нарочито экскурсоводным тоном поясняет:
— Впервые лично я столкнулся с Проломом в городском бассейне. Чин, естественно, плыл по дорожке навстречу общему движенью. Типичный хам: плывёт, руки не уберёт, а обязательно заденет, даже стукнет, или ногой лягнёт. Я не уступил. Столкнулись. «Куда лезешь по моей дорожке!», забулькал на меня Пролом. Ну, я, как отплевался хлоркой, каяться: «Виноват, мол, ваш чин: не углядел, не слышал! Вам бы проблесковый маячок с пожарной машины на темечко надеть: включил сирену — все б и расступались. Привыкли спасателям народа уступать…» Из бассейна меня, понятно, сразу же «ушли», а Пролом, говорят, в сам деле, стал плавать с маячком на голове. Что значит подсказать начальству верное решение! Остатние чины только и могут, что в служебных машинах ехать — крякать на народ, а Пролом даже как в сортир административный шёл, сирену на всю мощь врубал и на все стороны мигал: мол, иду по нужному делу, расступись…
Козюлю, оказалось, голыми руками не возьмёшь! В противостоянии с Проломом он не защищался — нападал, и даже пытался «прикарменить» у того красавицу-жену. Разоблачения Козюли и примкнувшего к нему Хамудиса скомпрометировали перерожденца. Хотя, вероятнее, Пролом элементарно с кем-то не поделился или угодил в предвыборную кампанию по «очищению рядов», порученную недогоняющему городскому прокурору, кой шёл на повышение в Москву и посему был особливо бескомпромиссен.
— Так вы на «Тупике» купили место. На кой ляд? — интересуюсь у Козюли, ближе к телу.
— Похоронил авторский манекен самого себя!
— С целью?
— Отработать процедуру крези-похорон: вдруг, придётся в этой стране в бозе почить. Из гроба ошибку не поправишь…
Тут Козюля выбрал из кострища уголёк, набрал из баночки с прозрачной жидкостью полную пипетку, и направился в ряды манекенов, театральным жестом пригласив следовать за ним. Нам что — идём с Марусей, только не гуськом, а клином. Козюля углём делает штрихи, малюет тени, пальцем затирает, придавая выражению лиц манекенов боль чёрную утраты, глазам и щёкам накапывает не сохнущие глицериновые слёзы, а в позах, заламывая манекенам руки, отражает скорбь. Получается, однако! На людских похоронах, в глазах и фигурах провожантов столь обнажённого несчастья обычно не увидишь: люди стараются сдержаться, да и привыкли к смерти, манекены — нет…
— Гражданскую панихиду, — повествует далее Козюля, — отслужили на этом пустыре: земле собак-изгоев, униженных и оскорблённых. Мой народ, понесший горькую утрату, безмолствовал, не омрачая торжественности минуты, и только взглядами, полными слёз, да жестами отчаяния и скорби провожал меня в последний путь. О, чтó, сироты, ждёт вас без меня! Любимчиков я ещё при жизни просил участвовать в опусканье гроба. Сначала были речи. От областного начальства официально выступил господин Пужай-Сорока, преемник усопшего Пролома. Он пометил мой недюжинный талант и вклад: наша область, мол, осиротела, погас ещё один луч света в тёмном Непроймёнском царстве и всё, как полагается, в том же перспективном духе. И, вдруг новость: учтя заслуги усопшего, администрация в день моей смерти восстановила мне прежнюю фамилию — Казубкин, поэтому теперь никто не знает, какую фамилию писать в свидетельстве о смерти и на могильной плите! Впрочем, дайте срок, юристы разберутся, во многонациональных государствах такое с Ф.И.О. случается через одного, а ему, то есть мне, всё одно спешить теперь некуда… — это Пужай-Сорока уже стал успокаивать возмущённых манекенов — к нему, непроймёнскому, считай, герою, и к бесфамильному не зарастёт народная тропа… Но моя гвардия — манекены попроще, борцы, боксёры, мишени со стрельбищ, экспонаты анатомического театра — мои гвардейцы не вняли жалким оправданьям: двинулась строем на Пужай-Сороку с его тоже безмолвными «людьми в штатском». Что тут началось!..
Здрасьте вам! И у меня, прикинул, этимология отчества не вполне ясна! Вот, назвал меня кто-то Онфи́мом! Онфим — славянская версия греческого имени Анфимий. Это имя грамотного шестилетнего новгородского мальчика тринадцатого века, времён Александра Невского. Пацан не простой: он автор двенадцати писем на берестяных грамотах и нескольких берестяных рисунков из советского школьного учебника по истории Руси. Есть даже автопортрет Онфима, скачущего на лихом коне и разящего противника своим копьём. Мальчик явно ощущал себя будущим воином: нашли его рисунок зверя и подпись: «Я — зверь». Рисовать «зверь» научился раньше, чем считать, посему изобразил себя трёхпалым. Ну и что — трёхпалым? Я тоже воитель с квадратной головой!
Теперь Онфим символ Великого Новгорода. Кто может ещё своим именем так похвастать? От имени и пришло ко мне ощущение причастности к самим истокам государства. Оно, наверное, исподволь ковало мой характер. Я, возможно, единственный Онфим на всю Россию — и это знак! Выходит, некто разглядел во мне, новорождённом, врождённый русизм и указал бессмертным именем собственным путь мой: блюсти Россию, наследницу Руси. А как ещё меня было наречь: не Сосипатром же или Задрогом! Кто, по-вашему, дотошный читатель мой, мог бы сподобиться дать мне столь знаковое имя? Мать отпадает: сбежала, бросила меня в роддоме, завёрнутым в казённую пелёнку. Папаша неизвестен — этот вообще не в счёт. Работницы роддома и социальных служб — им ли до изысков редчайших исторических имён для прорв «отказничков»? Значит, с неизбежностью, в моей судьбе участвовал начальник из числа анфасных и культурных или из славянофилов катакомбный меценат! Разглядел он на моей буколической, кругленькой тогда ещё, головке верные меты патриота!
И метафизическая память открывает мне картину дарвиновского отбора в Непроймёнской стороне… Вот я лежу в боксе, на коем вместо имени прицеплен номерок, лежу и, дабы просто выжить, сам бодрюсь и голосом, слезою, и телодвижением своими подбадриваю белые пятна тётей с бутылочками молока и свежею пелёнкой — точь-в-точь, как, наверное, в Матерках израненная Тонька, завидев бабу Усаниху и Афоню, пищала и цокала попеременно, и дёргалась им навстречу, лёжа перебинтованной в сарае. Коль добился, что белое пятно приблизилось, нагнулось, тронуло и сказало что-то, значит, буду жить! А как ещё не сдохнуть безымянным: отбор не шутит! Я читал: в адаптивные свойства новорождённого млекопитающего входят свойства его родителей, а где мне их было взять? Лежу, млекопитающий, один день отроду, почти без адаптивных свойств, пищу и цокаю, дабы спастись. Ну, а мой папаша? Ну, нет во всём мире имени Лупсидор — можете, всезнающий читатель мой, не рыться в оксфордском словаре. Имя Сидор есть — на Руси оно с одиннадцатого века. Тогда откуда взялась приставка «Луп»? Отвечу без интриг: не знаю, чья-то тайна! Могу предположить: старому и незвучному сегодня имени Сидор, дабы окончательно не сгинуло в забвении, некий мудрый человече просто добавил звучную приставку. Хорошо бы так. А вдруг, как с Козюлькиным, промахнулись резиденты в ЗАГСе и потом за исправление никто не взялся? Тогда мне тоже может выйти непонятно, чтó на плите писать. Нечем прояснить! Обычно, в «выкающем» диалоге или близкие люди зовут меня Онфим Лупсид. Иные к отчеству добавляют «рыч» — из большого уваженья или если не спешат, или зачитывают имя по бумажке. Бывает, добавляют «ырч» — это уже признаки деревни. А уж полностью, по слогам — Луп-си-до-ро-вич — говорят только в ответственных случаях или, по молодости, так меня склоняли в издевательских целях, но я не в обиде: мне ль, голой сироте, обижаться по пустякам…
— И какой практический вывод сделали? — спрашиваю ýшлого Козюлю уже с личным интересом.
— Я решил, на всякий случай, подготовить шестьдесят четыре бронзовые таблички, с фамилиями: Козюлькин, Казубкин, Каценеленбоген, Кац, Козюлькин-Каценеленбоген, Казубкин-Каценеленбоген, Козюлькин-Кац, Кац-Козюлькин… Мысль донёс? А, пожалуй, все вместе их и прикреплю! У меня ни одно имя не отнимешь! Мой народ тех «людей в штатском» хотя с потерями, но одолел, а Пужай-Сороку взял в плен, упаковал в смирительную рубашку и посыпал трофейным дустом ДДТ — страшным дефицитом! По скончанию речей Монти Хамудис, мой соратник, ударился в канкан…
— Монти?.. — тихо сказала, вдруг, Маруся и нахмурилась.
— Монти Хамудис. Он в этой стране лучший пианист-бугист! Тогда вороны, страшно возбудясь и каркая, с благой вестью, разлетелись, и процессия на платформах бортовых КАМАЗов, давя бурьяны и стихийные помойки, тронулась отсюда, с пустыря, на кладбище. Это был триумф всей моей жизни! В эмиграцию меня бы так не проводили! Заслышав рок-н-ролл и буги-вуги, и разглядев, главное, манекенов, бредущих за отпетым телом, добрая тысяча зевак примкнула к процессии. Они давились выхлопами солярки от грузовиков, возалкав стать свидетелями моих крези-похорон. Маэстро играл с озорным азартом, так, что нашёл себе из публики с дюжину клиентов — для одних он сейчас как раз на «Тупике» играет. Вороны и грачи от возбуждения его басами пришли в неистовство и так галдели и метались, пестря небо и гадя на процессию, что я подумал: апокалипсис начнётся с ужасной войны птиц, как видел на одной японской акварели семнадцатого века. На месте перед погребеньем распили пятьдесят алюминиевых кастрюль глинтвейна, после погребенья — впятеро больше, гудели до утра. Полевая кухня из Непроймёнского гарнизона по моим французским рецептам сотворила чудо. Было интересно! Не простой же обыватель помер. Я небожитель, но тело бренное начальство зарывает в андеграунд — выходит пограничный дуализм! Товарищ Бодряшкин догоняет, к чему я клоню?..
И заговорщицки, как весёлый чёртик, Марусе подмигнул.
А, пожалуй! Такого рода дуализм вполне может привлечь любопытствующий дух подземелья. И то: объект любопытства духа на пустом месте упорно борется с начальством, имея и плодя при том собственный народ… Тогда и я Марусе подмигнул: мол, замётано — нужен доступ к Козюлькиной могиле!
— К тому же, — продолжает витийствовать Козюля, — кто знает: может случиться, когда мёртвые восстанут, их возглавят манекены!
— Это ещё почему?! — говорю построже. Диссиденту надо прояснить! — Законного начальства везде должно хватать!
— Телá моего народа в могилах лучше сохранятся, а особого ума вещему воинству не надо для мести сущему начальству. Из восставших казачков выйдут просто чудо-командиры: «Шашки наголо-о-о!» А медицинские модели, они уже до боя сами с устрашающими разрезами в груди и на головах: крови не боятся. Не подкачают и военные мишени-манекены: они привыкли к огнестрелу и сами до зубов вооружены. Да что это я, пардон, о виртуальных революциях в присутствии Венеры!..
Тут Козюля, совсем на манер картавого себе в нос француза, рассыпается в любезностях и, за здорово живёшь, — в моём присутствии! — предлагает Марусе хоть сегодня вечерком обмериться на сканере, дабы выполнить с неё оригинальные модели:
— Одну — «сибирской амазонкой», с битой, манекеном во флеш-стиле. Другую — «сталинской девушкой с веслом», скульптурой в классическом итальянском стиле Шадра, ученика Майоля. Я из вас такую звезду русского бурлеска с косою сделаю — улетите в Париж, к Диору, не позже Рождества. И Мадам Баттерфляй по-русски тоже подойдёт: коса меж крыльев, винтаж нативный — вот это будет маньеризм! Да вы, без двух мазков, готовый идол языческий…
— Мокошь! — кричу я, вырвалось непроизвольно.
— Русская Брунгильда! Я с вами создам новый стиль: брутальный «а ля рус»! Решайтесь! Создадим, Мокошь-Брунгильду, брутальный северный русский стиль?!
— Лих-ко! — вдруг, резко соглашается Маруся и корпус двигает к Козюле.
Я сел: вот бабы! Я вам, доверчивый читатель мой, втираю: Маруся та, Маруся ся, а она косу меж ляжек сжала и была плутовка такова! Битый час ваятеля гнобила, а в итоге… Неужто решила-таки уйти от Савелича и пуститься вновь по америкам-европам? Русскую брутальную модель у них ещё, в самом деле, не видали! Мы, впрочем, тоже. Я давно в художников громы-молнии мечу: где у вас, наконец, большой русский стиль?! Русский-то вкус остался: большой размер, простота, изобилие, яркость, звон, мех… А вот со стилем хуже: вторичность одолевает нас со всех сторон. Даже меня. Я не резон, но трудно избавиться от штампов! Пусть, наконец, обветшалые евростили оближутся на нас! Позор, что наши полезные идеи воплощать всегда берутся чужаки! Но только представьте, совестливый читатель мой, как Козюля извратит русскую национальную идею! Диссидентская Мокошь станет Золотой антилопой — сыпать в его мошну звонкую монету из-под копыт. А какая у него может получиться «девушка с веслом»? Поставит свою модель в вульгарно эротическую позу, выпухлит все интимные места, блудливо раскрасит, весло похожее на фаллос в руку всучит — и на всех евроуглах, взахлёб, по доступным ценам примется опущенной идеей торговать: берите русскую Брунгильду!
— Но сначала, — почти упёрлась в грудь Козюлькина Маруся, — закончим дело. С вас ключ от ограды к вашей лжемогиле.
— С моей любовью!
Козюля от воодушевления взвивается, едва не улетев на ветку к своим на фиг дятлам и воронам! Щурится от счастья и опускает — через очки — глаза, выразительно пялясь в то место, где между ног Маруси исчезает тёплая коса. Тогда принимается неторопливо стягивать попальчно дырявые свои в нечёт митенки и, наконец, бросает их небрежно наземь, как это со своими белыми перчатками всегда делал эпатажный Лист, выходя на сцену к белому роялю. Затем, по-гусарски, скидывает с плеч долой расползшихся хорьков и, с игриво заговорщицким видом, лезет себе за пазуху, извлекает английский влажный от пота ключик на шейном кожаном шнурке. Протягивает его Марусе, но не отдаёт, потирает в пальцах. Говорит многозначительно:
— Тёплый!..
В ответ, Маруся, чуть разведя ноги, конец своей косы освобождает, встряхивает в кулаке, дабы размахрился на букетик, протягивает Козюле, и нарочито низко, из самого межгрудья, вторит:
— Тёплый!..
С Козюли как упала маска: такого даже бабник-диссидент не ожидал! Опростись, Козюлькин, гад, и знай наших! Он даже изменяется в лице и жестах! Без хорьковой шубы, преображаясь так, что становится почти нормальным, и я даже забываю на миг о его вражьей сущности, творец берётся за тёплый конец Марусиной косы, мнёт, подносит к носу, уже без обычного придуренья, не торопясь втягивает, шевеля ноздрями, воздух и говорит пять фраз, вслед каждому понюху:
— Ва-у!.. Феромоны того стоят… Пора в поход собираться… Хватит овёс на привязи жевать… Застоялся…
Маруся удовлетворённо хмыкает, отбирает косу, отводит её за спину и заправляет под ремень, ключ суёт в задний карман и с приветливым вопросом гнёт на Козюлю бровь. И тот, ликуя, объясняет нам, как на кладбище найти Монти Хамудиса: «Услышите басы, а дальше могилу он покажет…»
Я, до лёгких матерков, собою не доволен: в наводке на концептуальную могилу отличилась первым номером Маруся. Я же занял второе первое место…
Из личного. Не дёшево мне обошлось знакомство с паноптикумом Козюли. Наверное, сказалась природная впечатлительность, сто крат усиленная присутствием Маруси. Мне в следующую ночь приснился сон… Сначала обступала темнота и я слышал слабый шум, возню подле себя, какой-то шелест, чмоки, и раз за разом меня пронизывал озноб от прикосновений к голому телу чьих-то неприятных рук. Вдруг, один глаз — мой глаз — открылся! Вижу им Козюлю. Тот в чёрных очках, босоногий и в хорьковой шубе, а поверх напялен грубой кожи куцый и замаранный мастерового фартук. Сопя и потея, Козюля лепит меня из рыжей глины: как раз приляпал один глаз, отошёл и, по обыкновению, с издёвкой, любуется своей работой. Я в ужасе: меня, немого истукана в мой обычный рост мастерят в каком-то странном полуподвале, скорее каземате. Здесь темно, голо, бетонный пол, кресло-трон посерёдке, грубый деревянный стол, на нём тазик с глиной, ваятеля варварские инструменты — и больше никого. «Даже очков чёрных не снимет, сволочь! — думаю с отчаянным негодованием. — Что он так увидит? Как пить, наляпает мне что-нибудь не то!». Вот он в руках размял не очень ровно второй мой круглый плоский глаз, похожий на беляш, и приляпал. Я стал бинокулярным, и тогда увидел всю катастрофу… Неужели этаким уродом и будет Козюля обжигать меня в печи?! Всему конец! Патрон!.. Маруся!.. Люди!.. Как я, гвардии премьер-майор, вам покажусь?! А тут ваятель хренов в рот ко мне обе пятерни свои, вместе с рукавом хорька, засунул и проминает во внутрь большую полость, да так глубоко, в самое горло, что глина, чую, задыхаясь, вот-вот полезет моих из ушей… Сосредоточенный такой Козюля, аж язык высунул, будто модельку самолёта клеит. Тогда особливо стало неприятно: благо ещё, что он не курит, чеснока не ел и зубы, наверное, почистил. Хватит проминать! Этак и не рот получится, а пасть — такая кого хочешь проглотит целиком! Зачем мне такая пасть?! Он… — это поиздеваться, отомстить? Наконец, довольный, вылез изо рта… Опять, с придуреньем и гримаской, смотрит… Потом Козюля из-за пазухи хорька вытаскивает свёрнутую трубочкой бумажку с заклинаньем и в разинутый мой рот суёт — и я как бы оживаю: могу, чую, шевелиться, но не говорить, из страха, что заклинание выпадет изо рта, и я стану неодушевлённой глиной, засохну и рассыплюсь в прах. Козюля:
— Таким и ступай, мой Голем: вдохновляй народ на любовь к начальству.
Ах, я теперь Козюлькин Голем! Я кукла! Манекен! Голем — Франкенштейн из глины, созданный, по легенде, для выполнения сомнительных работ и поручений еврейской общине во благо. И тут я куда-то уношусь… Передо мной замелькали картины плотных масс народа, затем они совместились в одну массу, и я очутился, как бы одновременно: в битком набитом советском автобусе, утром, когда трудовой люд весь едет на работу; на городской площади в тесных колоннах Первомая; в громыхающем вагоне метро в часы пик; на пролетарском митинге в заводском цеху, у Пентагона; на трибуне забитого сверху до низу стадиона… Со всех сторон меня ненароком обступили люди, плотно слишком прижимались, своими телами не давая поднять «ленинскую» руку и даже шевельнуться. Вижу: они в лучшем случае равнодушны, без понятий, в худшем — недоброжелательны и злы. В смысле, не сами по себе злы и равнодушны, а к моим готовым вырваться речам: как будто знают, к чему буду призывать — и заведомо «не разделяют»! Не разевая рта, дабы не потерять проклятую бумажку с заклинаньем, я всё тщусь объяснить народу: почему он обязательно должен подружиться со своим начальством. Я снова пробую хотя бы выдрать кверху руку, дабы жестикулировать, махать, но из-за тесноты и этого даже не выходит. А в спину — лом чьих-то плеч и локтей. Тогда, уже задыхаясь, хотя бы вблизи стоящим людям строю убедительные рожи, а в доказательство едва не плачу из больших своих и круглых глаз… Но люди мною страшно недовольны. Они в упор подступают, уже и ругают, и бьют по квадратной голове, давят и в сильные толчки меня теснят на какой-то задний выход, откуда никакого входа уже нет. Товарищи, со мною, глиняным и обожжённым, обращаться так нельзя: рассыплюсь в черепки! Я с новым ужасом осознаю: в густых народных массах без громового выкрика неслыханного слова простые люди указующего разума не внемлют! Что ж: придётся погибать! Пусть видят, как Бодряшкин может погибать! И я, из последних сил напору безумной толпы противостоя, собрался было прокричать «Нар-р-род!» и вдохнул поглубже… — тут-то заклинание Козюли и застревает в горле: я давлюсь бумажкой, задыхаюсь, падаю на спину, бьюсь затылком об пол и, объятый предсмертным ужасом, просыпаюсь. В комнате душно, как полагается в «хрущёвке» летом…
И вот что я подумал, продышавшись на балконе и попив чаю с долечкой лимона. Исторически скоро нас окружат роботы. Они будут выполнять за людей многие работы: в перспективе — все, включая размножение. Каждый человек станет начальником над своим роботным народом. Миллиарды роботов! В отличие от Голема, — живой, но не имеющей души куклы — роботы будут привязчивы к хозяевам-начальникам, как домашние животные, и тем более роботы-мамы и роботы-папы будут, по программе, любить «своих детей» — будущее человечество то есть. Машины будут сопереживать, сочувствовать людям и при этом будут способны к целевым групповым действиям. И если роботный народ увидит несправедливость в отношении своего начальства или «своих детей», то поднимет бунт, осмысленный и беспощадный… Шествие манекенов Козюли — чем не прообраз манифестаций вышедших из повиновения машин?
Новелла о пианисте-бугисте
Когда поднялись с Марусей из дымного оврага, услышали из пустоты редкого здесь леса приглушённые басы. Играют бýги.
Вслушиваться в далёкие звуки музыки, перебиваемые близкими шумами, это нечто совсем иное, чем «слушать музыку». Отдалённо слышимая музыка доигрывается нотами предвкушенья встречи. Здесь ещё нет удовольствия, но твоё сокровенное уже не одиноко. Гегель, живший в эпоху романтизма, определял сокровенный смысл музыки как «жалобу идеального». Не спешите, великодушный читатель мой, сетовать на устаревшее определение сие. Уже миновали реализм и модернизм, уже ясно, что постмодернизм остался без собственной берущей за душу музыки. Над чем же, очищаясь в слезах, будем плакать? Над музыкой надо плакать — и хватит нам этих слёз сполна.
Буги-вуги, замечу для усердного читателя попроще, это манера фортепьянной игры в сопровождении блюзов: свободная импровизация на характерную, повторяющуюся мелодико-ритмическую модель в басу. Буги-вуги — музон независимый и нетоварный, а исполнители в России — все профессионалы-неформалы, личности с большой буквы, всегда без чеховского раба в душе, выпускники столичных, как правило, консерваторий.
— Что играют? — щиплю Марусю за бочок, сам узнавая ритмы времён студенчества.
— Старые рок-н-роллы. Трио: рояль с ударником и саксом. Исполняют «Тутти Фрутти». Покойник, наверное, был не молод…
Гуськом двигаем к просвету меж деревьев. Там виднеется белый рояль на платформе, похожей на КАМАЗовский прицеп с откинутыми бортами, и слышится нешуточная гульба.
— А теперь забой «Юбенги сторм», — вдруг информирует Маруся, уже с необычным для неё интересом: как правило, она лишь отвечает на заданный вопрос. — Знакомая манера… Это Монти, он…
В отдалённом оцепленье вокруг играющего трио, парочками и по одному стоит прикладбищенский народ, физиономий сорок: есть среди них и «коммунары» из глиняного городка: их узнаю по образу и подобию тройки из оврага. Все терпеливо ждут и напрягаются: как делить поживу? Терпения бомжам не занимать! А в отдалении переминается приличная толпа зевак: эти просто внимают редкостной музыке в столь неподходящем месте. Дабы прояснить, невидимый для пьющих, усаживаюсь на примогильной лавочке поближе к прицепу с главным инструментом. Маруся, не присев, застывает рядом. Смотрю: она заложила свою косу меж грудей до низа и, сомкнув ноги, зажала кончик в интересном месте, тем самым разделив по вертикали свои рельефы ровно пополам. Задумалась, и гладит косу тихонечко и ласково, будто рыжую кошечку свою.
Тут маэстро от рояля видит нас: сперва ко мне разок отводит подглазный синячок от недосыпанья, а потом Марусе двадцать четыре раза, в такт, кивает. Как при этом у него смешно дрыгается на спине стянутый простой резиночкой хвост чёрных с редкой проседью волос!
Могила бандюгана по понятиям большая, вся из полированного чёрного гранита, как у цыганского барона… или наркобарона, что теперь одно и то же. Сам памятник — фигура в тройке, с крашеной под золото цепью на груди, стоящая в рост человека, о двух ногах и бритой голове на несообразно тонкой почему-то шее: эстетствовал ваятель, знать, тоже маньерист. Братва, я понял, выпивает на помин души усопшего собрата. Рядом гусёк из четвёрки чёрных, сродни катафалкам, квадратных джипов-меседесов, два микроавтобуса-буфета передвижных, пять официантов в ресторанной униформе, накрыты сдвинутые в круг столики с весёленькими скатертями, там-сям повоткнуты в землю флаги с российским триколором и эмблемой какого-то спортклуба, поодаль ящики с водярой и груды голландских роз в пакетах — их позабыли разобрать и разложить по урнам на могиле, а на видном месте, под сосной, ещё одна дань подлинной культуре — ядовито-синий биотуалет.
Маэстро, весь в ручьях пота, как шахтёр в забое, кайлом лабает уголь рок-н-ролла: без нот, без остановки и без микрофона. Сам едва не плачет, а мимика, будто усопшего знавал с пелёнок и только-только потерял! Что интересно: братишки — своим матом, движеньем тел, боем посуды, рыкающим криком, взрывами смеха, восклицаньями, свистом — попадают, как ни странно, в исполняемую пианистом тему, как будто репетировали восемь дней. Получается концерт! Прислушиваюсь… Нет, пожалуй, всё же это пионист-бугист умело попадает в звуковую тему разудалой пьянки, зная непреложные законы её развития в пространстве-времени — при вполне определённом контингенте.
Наконец взялись шарахать из ракетниц в небо: знать, грядёт перерыв на серьёзный тост. Маэстро, сыграв тушь, по лесенке, спускается с платформы к нам. Из рук официанта перехватывает бутылку водки и два гранёных стакана: русские настоящие бандиты из пластика не пьют! Вблизи приятный оказался, даже милый, безобидный — не захотелось мне в глазах Маруси распылять его, как диссидента и однокорытника Козюли. Лет сорока с небольшим, высокий, узкогрудый, в белом смокинге, вместо бабочки повязана чёрная ленточка, как у француза, а замест очков — тёмный полукруг под каждым глазом. Не знаю почему, но пианиста я всегда представлял себе в смокинге, худым, длинноволосым, вид глубоко меланхоличен и слегка потаскан, возраст значенья не имеет — всё! Классический бугист как раз таков: он не холёный пианист, но в приличные концертные залы иногда пускают.
— Мне господин Козюлькин звонил о вас… — приветствует меня хриплым баритоном.
Оттянул и пригладил хвост свой на затылке — и разливает наркомовскую дозу. А сам осторожные бросает взгляды на косу Маруси. Та подаёт закуску: конфетки, пирожки с ливером из буфета ЖИВОТРЁПа, минералку. Вообще-то я бандитское и воровское не пью совсем, но… предбоевая обстановка требует от меня сей жертвы. Войны нет, а пьют по-военному.
Как чокнулись, кивнули и выпили без тоста, вопрошаю для культуры:
— А кроме вас в Непроймёнской стороне рок и буги кто-нибудь играет?
— Куда им… Пальцы в полминуты устают бить по низам: бугисты — кожемяки. Мазохизм — так играть. Иной раз даже плачу сам не пойму с чего: от наслажденья звуком или от боли в пальцах. Если играю в наслажденье, так обязательна и боль…
И опять маэстро, ища сочувствия и ещё чего-то, смотрит пристально и долго на Марусю. Вот креатура тонкого искусства: вмиг угадал в ней мазохистку! Промолчала, но взгляд повлажнел… Хватает ей Савелича, однако! Сукин кот, служитель!
Разговорились… Пианист-бугист Монти Хамудис конфликтовал с начальством от искусства, по мнению коего ни одно культурное заведение в Непроймёнской стороне никак не нуждалось в чуждой музыке, а значит, и не было социального заказа на исполнителей рок-н-ролла и буги-вуги. И вообще: «Чему их в консерваториях учат — за государственный-то счёт? Поступает в консу лояльный гражданин России, а выпускается готовый диссидент!»
— Меня вообще никто не принимает, как с Луны упал, живу в синайской пустыне. Администраторы от музыки привыкли к тишине. Они как нервные вороны с кладбища: едва заслышат качественный рок или буги, летят подальше, куда кто.
— А родители сочувствуют вам? Морально, хотя бы, помогают?
— Оставьте! Они у меня советские, «правильные» — живут строго на конституционном минном поле. Чтобы не подорваться на статьях, боятся шаг вправо-влево сделать. Я со средних классов школы неформал: курил «траву», «участвовал», «привлекался»… А когда в консу семнадцатилетним поступил и закружился, начальство родителей окончательно достало — те и выставили меня за дверь: «Без партбилетов нас оставишь! Портишь жизнь!» И последующие семнадцать лет — семнадцать! — промаялся на чужих инструментах, в чужих домах, общагах, гостиницах, как и где попало. Пришлось давать, лизать, сосать… Делал, в общем, всё, чтобы самому, без помощи, стать на ноги, как пианисту. Таких унижений даже родителям не прощают…
Опять отцов нет, думаю. И то: в квартире, небогатой, как рояль держать, коль что есть мочи лупят по басам?.. Но всё же мне, горькой безотцовщине, загадка: почему так легко советские родители, даже порой кавказцы и евреи, становились на точку зрения власти, презрев таланты своих чад? Правильное мнение начальства, выходит, даже чадолюбия сильнее?
— Но с голоду не пухнете?
— Концертирую в Европе. Впрочем, и в этой стране уже не меньше платят…
Я расспросил маэстро, где похоронен манекен Козюли.
— Я вам писал… — вдруг, быстро опьянев, взыскует пианист-бугист к Марусе,
Та с усилием не смотрит на бугиста: включила навигатор и вызывает десантуру.
— Вас можно хотя бы проводить к могиле?! — прямо на моих глазах идёт вразнос маэстро.
Маруся уже справилась с минутой состраданья: безучастно качает головой…
— …Он получил «пожизненно» — «условно»! — как заорёт один бандит.
В ответ раздаётся такой хохот, аж ветки сосен шевельнулись и две последние дежурные вороны, закаркав не своим голосом, улетели прочь. Другой бандюга, смотрю, полез целоваться с памятником и… — снёс ему голову… Я же говорил: шея тонковата! Обсиженная птицей голова скатилась прямо к столикам… Братва взревела, кинулась в разборку, поделясь на две команды, и началась потеха с канонадой… Толпа зевак шарахнулась, бомжи стали пятиться и расползаться…
Благо, тут подъехали десантники, вступили резко в битву и, не без потерь для себя, скрутили бандюганов. Тогда и мы выходим из-под сосен. Оглядываю поле боя. Бандиты в наручниках лежат рядком, грозятся, вхолостую рассыпают мат. Десантники все в камуфляже, при орденах и знаках. Войны нет, а одеты по-военному. Озадаченно косясь на хорошо знакомую Марусю, предлагают свою помощь. Я:
— Доложите обстановку! Этих, как вандалов — до трёх лет — удастся, может быть, привлечь?
— Никак нет! Могила им не чужая: вандальского мотива, значит, нет. Попробуем привлечь, как мелких хулиганов — им так даже обидней будет. Мы отыскали землекопов, но те ни в какую. Говорят, тела из судмедэкспертизы закопаем в понедельник, а сейчас работать надо, хотите — закапывайте сами, дали нам лопаты. Трое наших парней остались там, закапывают. Верхние два тела с отрезанными мягкими частями — на собак не похоже, те рвут.
— Нашли говорящую могилу?
— Никак нет! Допросили всех: местное начальство, «крышу», сторожей, землекопов, «золотую роту», алкашей-цветочников, цыганок, таджиков-нищих, пастуха, промышляющих подростков… — всех подозрительных, кого смогли найти или поймать.
— Как «поймать»?
— Задержали шарлатана. Ходил по кладбищу в сопровождении родни усопших: решал, кого возьмётся воскрешать и сколько это будет стоить. Обещал со временем всех воскресить. Старателя цветмета поймали на месте преступления: откусывал медные струны на арфе у памятника на могиле музыкантши. Ещё нашли в ямке, под листвой, два свежих подброшенных трупа в полиэтиленовых мешках, в пригодном для опознания состоянии; отправили их в ту же судмедэкспертизу…
Маруся тем временем вынула из сумки тюбик клея с кисточкой, наждачную бумагу и выдаёт всё это парню здоровенному в лихо заломленном на затылок крабовом берете, при орденах и знаках, вчерашнему дембелю, судя по оснастке, чьё лицо, хоть со шрамом, было, тем не менее, в чертах потоньше, чем у других вояк. И выразительно повела бровью на могилу бандюгана, как бы говоря: «Всё же памятник». Дембель, ещё не вполне остыв от захвата, по привычке козыряет «Есть!» и выдвигается к оторванной голове, покойно уткнувшейся носом в песок, — затирать поверхности и клеить.
Доклад десантников мне ничего не дал: так, будни «Шестого тупика». Под негодующие возгласы бомжей забрала десантура водку, закусь, оседлала джипы и двинулись пёстрым гуськом сдавать бандюганов в милицию и отмечать победу.
— Успели заплатить? — спрашиваю пианиста.
Тот нервно разминает пальцы и почти неотрывно смотрит на Марусю. Она снова бесстрастно стоит поодаль, не прикасаясь ни к чему и не роняя звуков. Я давно заметил: чем беспокойней место, тем статуевиднее и отстранённее становится Маруся, и тем сильнее, по контрасту, привлекает к себе общее вниманье.
— Я битый, — крепясь из последних сил, ответствует, как сам себе, маэстро. — Аванс взял, хватит мне: в Европе и полстолько не дадут, и плати налоги… Даже лучше, что так закончилось: грозили сломать пальцы, «если от твоей музыки не попрёт».
Сухо прощаемся. Взглянув в последний раз на мою Марусю, пианист-бугист до неприличия краснеет густо. Мы уходим. Боковым зреньем вижу: маэстро взошёл по лесенке на платформу-сцену, там уже приятели разлили, ждали, а как выпили без «чока», с одним кивком, отвергнутый бугист облокотился на рояль и Марусю долго-долго взглядом провожал, выстукивая звонко, резко единственную высокую ноту, как на балконе каплет в тазик дождь…
Я не мормон, но становится обидно за мужчин! Как девица, не проронив ни слова, а одним лишь пусть необычным, но дешёвым финтом — приняв позу советского памятника на главной площади и засунув косу меж ног — сподобила далеко не простого мужчину вывернуться до изнанки? Нет-нет, он же ей писал! Они друг друга знают! Маруся, признавайся! Та:
— Познакомилась с Монти в Амстердаме. Мы там играли на первенстве Европы, он играл на европейском конкурсе рок-н-ролла. Онфим Лупсид, голубчик, не ревнуйте, я с ним не спала. Раза три днём по городу гуляли, под предлогом шопинга — вот всё. Меня в то время тренер пас, персонально: ни шагу в сторону, спала чтобы у его ноги! Утром у меня тренировка, у Монти — репетиция, вечером у меня игра, у него концерт, ночью… спать — усталость, нервы. Не складывалась парочка даже «на раз». Да и не хотела я никогда «на раз». Потом он долго писал мне в «личку», мечтал о нашей звёздной паре, руки просил, я не отвечала. Как всем другим.
— И другие пишут?
— В тот год на мой сайт поступило двести предложений выйти замуж. Наверное, время моих женихов ещё не пришло. А как придёт, я выберу кого попроще и повеселей — не вампира, будет с них…
Двести за год?! Я чуть не закричал на весь «Тупик»: где, где твоё, Маруся, «сердцу не прикажешь»?! Нет, отухни поскорей, Бодряшкин! Это я, конечно, про самого себя. Мне-то нечего терять: я хоть сей миг головой в любовный омут сигану, найти бы только даму сердца. А Марусе терять есть что, и за плечами двадцать пять годков: возраст полного владения собой и здравых размышлений на почве опыта — ей легко будет своему остывшему от бурь юности сердечку приказать. Зря, зря про бугиста я спросил! Любовный опыт необыкновенной девушки! Даже не могу себе представить, чтó это за опыт…
Мемуар № 4
Новелла о врачихе Малуше
Когда-то больница была помещичьей усадьбой с по-французски регулярным парком в стиле барокко ― с тройной главной аллеей, с павильонами и прудами, фонтанами, ротондой на парнасе и бельведером, а парк населяли лебеди, совы и тени прошлого. Празднества, гуляния, театральные представления, приют для таборов цыган… ― русская дворянская жизнь здесь кипела и сверкала. Советская власть превратила парк из графского в городской: конечно, неприличные статуи героев и богов Греции и Рима, и уж тем паче беструсых нимф и амуров поменяли на пионеров с горнами-барабанами и на девушек с веслом ― в приличествующих трусах и майках; конечно, вслед за постройкой ДК «Картонажник», летний театр превратили в городскую танцплощадку; конечно, попроще обустроили розарии и клумбы; но в целом парк сохранился и служил местом отдыха и развлечений скукожильчан. В столетних липовых аллеях, в каменной ротонде на вершине насыпного холма, а главное, на вечерней танцплощадке сколько скукожильских невест нашли себе отслуживших в советской армии достойных женихов! Сколько новых семей вышло из романтических теней городского парка! Уж верно побольше, чем со склада макулатуры.
Отмечу, как освидетель жизненной фактуры: сегодня вид у графского парка ― как Мамай Второй прошёл! Парк опустел, посерел и скукожился в размерах. Одиноко по парку пролегает дорога к главному зданию больницы. Боковые дорожки все заросли бурьяном и убираются куда-то в сырой полумрак. Развалился грот, перестал брызгать фонтан. Чугунные решётки в изгороди вырваны. По бокам главной аллеи опрокинуты раскуроченные лавки, валяются урны и разбитые вазоны, в бесящем меня просто беспорядке разбросаны бутылки и всякая посуда, грязные пакеты и шприцы. На земле кое-где ещё различимы прямоугольники останков от газонов и пологие овалы клумб, зато асфальт под ногами искрошился и смешался с глиной так, что… горько продолжать. Сами насаждения изувечены бесхозяйственной и любительской рукой: от деревьев благотворных родных пород остались одни пеньки, зато стеной встали заросли моего заклятого врага ― американского клёна. Вот уж где сей ядовитой и гнетущей твари совсем не место! Стволы клёна, впрочем, тоже изрядно топором посечены. На иных иссохших стволах красной масляной краской, по явно самодельному трафарету, выведено: «Варяг». А вот, за кустами притаился ржавый кузов медицинского УАЗа, без рамы и колёс, а буро-красный крест на его боку со следами перерисовки в свастику и звезду Давида. Болезный народ кучками бродит или катит на колясках, а иные расположились на лавочках, для того временно поднятых: сидят на газетках, пьют, играют в карты, хохочут ― не разберёшь: кто из них больной, кто посетитель. Без ухода по-французски правильно разбитый парк скончался, видно, ещё на зорьке перекройки. И на его руинах сплошь взошла буйная чащоба ― теперь место полного единения больных людей с природой, общественный туалет и рай для певчих птиц. Представляю: как, верно, соловьи под окнами здесь в мае заливают! Не хочешь, а встанешь с инвалидной койки и уйдёшь! Сейчас же весь оживляж ― это подравшиеся две дежурные вороны…
А вот и сами графские развалины. Большой каменный трехэтажный дом с башнями по бокам, от него справа и слева теряются в зарослях кирпичные флигели ― раньше здесь располагались службы, конный двор, склады, зимние оранжереи и теплицы. В зарослях угадывается и пруд… точнее, усматривается ― по плавающим на воде цветным пакетам и бутылкам. Заглохло всё! Будь главное здание больницы одухотворённым, оно давно сгорели бы от унизительного стыда за свой внешний вид. Парадная лестница почти вся осыпалась, и напоминает пригорок, лишь железный ржавый уголок местами оформляет контуры ступенек. Штукатурка со здания и с колонн отслоилась, местами опала, и от образовавшихся проплешин красного кирпича вниз, по останкам светлой штукатурки, сползают бурые языки. Почти на всех колоннах на высоте глаз написано: «Варяг». Стены здания испытали на себе «либеральное землетрясение» отнюдь не равнинной силы: они сплошь в вертикальных трещинах и, хотя на них там-сям пёстрые заплаты, стяжки, но две, видимо, новые трещины имеют уже масштаб разломов ― эти заткнуты одеялами и старыми матрасами в полоску. Через одну щель между вторым и третьим этажами, где намокшие одеяла наружу отвалились и повисли, виден электрический свет. На первом этаже половина окон тоже наглухо задраены шерстяными одеялами мышиного цвета… Войны нет, а рушится по-военному. От здания больницы несёт близким прискорбием. Больные долго не живут!
― Наши олигархи «дворянские гнёзда», именья строят не в России, а в благополучных зарубежах, ― ругается Малюта. ― Показывают свою нерусскость духа. При царях элита тратила деньги в Европе, но хотя бы сама жила в России, рядом с народом-кормильцем. А нынешняя сволочь и тратит за кордоном, и прячется там, боится обобранного народа и армии, готовится к экспроприации…
На подходе к главному корпусу на нас вдруг кидаются собаки. Мы проходили мимо согнутой почти что ровно пополам острашенной старухи, обвешанной огромными сумками для пустых бутылок. Из развёрнутого газетного кулька она кормила прибольничных становых кобелей и сук, персонально, ради справедливости, засовывая каждую косточку очередной собаке в самую пасть, а сильным псам грозила кулачком в драной перчатке и шикала: мол, попробуй только отнять у слабачка! Псы виляли хвостами, как пропеллерами, запрыгивали на старуху, радостно и подобострастно скулили. Когда мы проходили мимо, псы всей стаей кинулись на нас, защищая свою кормилицу от чужаков ― порвали мне вторую штанину от самого Ив Сен-Лорана! Но я без обид: я тоже за своих кормильцев ― высокое начальство ― кому хочешь не только штаны порву!
На широкой площадке каменного крыльца, перед закопчённой колоннадой, стоят накрытые от дождя аккуратно уложенные поленницы дров, а вокруг следы от костров пионерского размаха. Берёзы и тополи парка, значит, уходят на дрова… Тепло в России ― это всё! Сейчас горит один костёр. К нему жмётся бригада весёлых балагуров-инвалидов в колясках и звено смешливых, на табуретах и на костылях, старушек, у коих из-под больничных халатов, неопределяемого в привычной радуге цветов, виднеются перевязки ― коричнево-жёлтые лохмотья застиранных редких бинтов. Вперемежку с больными стоят или сидят на чурбаках посетители: они всё же отличаются от больных своей одеждой и, главное, скорбным видом. Поодаль стоят живописные козлы для пилки дров, лежит двуручная пила, два топора, в начатом пеньке торчит колун, рядом ― клинья… Малюта направляется к костру, узнаёт у огня знакомых, слышу его третьим ухом: «Мальчика родила? Как не знаете, что делать?! Забирать, растить! Русских не хватает! Только попробуйте оставить: я вас!.. Стой-стой!» С последними словами Малюта кидается ко мне:
― Забыл! Сегодня дежурит Пипетка: она не пустит без «набора». А медицинский полис есть?
Полис-то есть ― у наших «органов», как в Греции, всё есть! Но, оказалось: по скудности районного бюджета, в приёмном покое с каждого требуют ещё и «набор больного». Скукожильчане давно привыкли загодя собирать сей «набор». Вы, столичный читатель мой, тут же броситесь спрашивать, конечно: а что в него входит? Компонуется «набор» по текущим материальным обстоятельствам больницы: градусник, бинты, пластырь, постельное бельё, посуда, все средства гигиены, включая стиральный порошок, туалетную бумагу и хозяйственное мыло, тапки, обязательно канцелярский блокнотик для записей ― в нём заведут медкарту, рентгеновская плёнка, системы для капельниц, костыли, шприцы, художественная книга или журнал ― их после выписки или смерти оставят в библиотеке для непосещаемых больных, и, конечно же, лекарства. Ну мне для отбитой селезёнки рентгеновская плёнка с костылями не нужны, а остальное Малюта через полчаса берётся привезти: у него-то, скина, «набор» всегда готов!
Пипетка, говорит Малюта, завела свой аптечный киоск ― прямо в вестибюле больницы. Она выдаёт больным не рецепты, а записки в собственный киоск, и все лекарства продаёт. А бесплатных лекарств, как ни спросишь, нет: «Закончились фонды». У кого из больных нет денег на лекарства, идут к Малуше за советом: та рассказывает о народных средствах… Вот и старуха у костра:
― Собираю боярышник, мяту, корни лопуха… Врач мне рекомендует покой и положительные эмоции, а я злюсь, как собака: почему оказалась нищей ― работала всю жизнь! За кого расплачиваюсь?
― Старик-то есть? ― интересуется седовласый тощий верзила, перегнутый через самодельные низенькие явно чужие костыли.
― Не-е-е, я невеста! Возьмёшь?
― Да какая ты мне невеста: у тебя болячек как игрушек на ёлке!
― Зато пенсия, свой дом, огород, скотина, пособие по потере кормильца…
― Так ты и мужа уморила?! Не-е-е, я ещё порыбачить на своём веку хочу.
― Во-во, ― вступает другой старик. ― И свой дом, и хозяйство, и земельный пай ― а бедные в деревне все, кроме новых кулаков. К лекарствам не подступишься ― лечимся народной медициной. Зачем всю жизнь работали?
― По привычке, дурень! ― реагирует отвергнутая «невеста». ― А вот скоро нас зароют, и молодёжь деревню бросит совсем, тогда всё зарастёт бурьяном. Зарастёт всё ― поля, деревни, могилы… Станет целина. А когда-нить опомнятся и возьмутся осваивать эту целину: всё по новой. Круговорот природы называется.
― У нас любят всё по новой! ― вскипает тощий верзила. ― Только к тому времени хорошие земли скупят иностранцы, а нам останутся одни сломанные спины. Эта больница ― точь-в-точь как наша деревня. Старые врачи, старые сёстры, няньки ― тоже все работают как заведённые, по привычке, а молодые в медицине ― ни ухом, ни рылом, как следует не лечат, больше ловчат, им только бы заработать с нас. На весь район остался один дельный врач ― Малуша! Патологоанатом, говорят, и тот сбежал: вскрыл напоследок учёную свинью ― для хохмы, наверное, ― и из города сбежал…
Вскрыл учёную свинью и сбежал?! Куда же мне теперь любимую жену козла Нечая на вскрытие устроить?
Да, быть врачом очень интересно: кровь, скальпель, клятва Гиппократа, неправильный диагноз, суд…
Зайдя в вестибюль, сразу всей чёрной кожей ощущаю, отчего больные греются у костра: отопление даже не включали. А потолки в палатах, представляю, высоковаты, окна тоже велики ― здание энергосберегающими соображениями не испорчено: русские дворяне труд своего народа не экономили совсем. Значит, дабы на высоте койки было хотя бы 18 градусов, на потолке должно быть 25 ― а такой градус весьма затратно натопить в решете. Направо вниз идёт для каталки съезд к ржавой толстостенной двери, на коей белеет недвусмысленная табличка: «Временный морг». Под нею, на высоте детской ручки, цветным мелком нарисован улыбающийся череп с бодрящей надписью, хотя и не совсем литературной. Кругом входной двери парочками стоит в живописном беспорядке сменная обувь ― всё сплошь готовые экспонаты для музея быта, доложу я вам, культурный читатель мой. Бахил надеть здесь, чую, не предложат. Всё суровое благородство вестибюля убивает в глубине аптечный киоск, называемый «ИП «Пипетка»». Киоск ― совсем не троянский конь! Это железный куб из сваренных листов, с глухой решёткой на двери, в коей прорезано узкое оконце ― только дрожащую руку протянуть с реальными деньгами и назад принять сказочного спасенья пузырёк. Общую картину скрашивает, впрочем, левая стена. К ней приторочен болтами по четырём углам густо красный противопожарный щит, списанный явно с корабля морского. Щит состоит в восхитительном для сего места функциональном порядке, впору диву даться: с мощными двумя топорами викинговых очертаний, турнирным багром, лопатами, ведром. Под щитом стоит крытый многократно той же масляной краской огроменный ящик с надписью: «Песок»; он, правда, не только для песка, а и обжитой: сильно истёртый задами болезного народа. По сторонам от щита, на крючьях, строгими глазами висят два старой закалки пробковых спасательных круга, на коих по самодельному трафарету красной блестящей краской в старанье выведено: «Крейсер «Варяг»». Здесь же огнетушители в количестве трёх штук на выбитом плиточном полу стоят ровнёхоньким гуськом. А на торчащем из стены железном рычаге висит рында со смыслом корабельного колокола и рядом, на пеньковой верёвке, с другого ― поменьше ― рычажка свисает шариковый подшипник: им пробивают склянки. Ещё из стены торчит на древке флаг крейсера «Варяг». Я не педант, но к орфографическим ошибкам нетерпим! «Ять» на конце слова «Варяг» отсутствует напрочь ― вот как эпоху русских варягов подзабыли! Однако же, беспокойный читатель мой, даже этот, казалось бы, пустяшный щит и спасательные круги ― вселяют и бодрят! И вестибюль пахнет свежей краской. Больница, выходит, не сдаётся, как «Варяг», и не горит в огне, и в воде не тонет!
На ящике с песком по струнке восседает вахтенный матрос: на нём драповый широченный клёш, лоснящийся и стёртый, затылок ломает бескозырка, от неё чёрные ленточки тянутся ко рту, седые усищи топорщатся под линкором-носом, старинный боцманский свисток виснет с шеи на цепочке… Это, конечно же, Варяг ― большой и нарочито капельку суровый, второму такому не бывать! Видно по всему: на крышке вахтенного ящика, подложив бушлат, он частенько и ночи коротает. Войны нет, а спят по-военному!
Разглядев меня, Варяг ни капельки не удивился! Спрыгивает бодро, встаёт в рост у своего поста знаком восклицанья, целит свой носище по ходу прямо на меня, выпыхивает ленты изо рта и, по-приятельски, с радостным огоньком в глазах, встречает:
― А-а-а, это ты, Забияка Тамбу!
― Так точно, я!
― Знаменитый черномазый боцман! Якорь тебе в зад! А где на тебе мой десантный тельник ― тот, с дыркой от багра?!
― Утром в море потерял: упал за борт, когда шли на абордаж!
― Человек за бортом! ― Варяг, не суетясь, как бы машинально и не глядя, хватает за пеньковую верёвку и трижды, с равным промежутком, подшипником бьёт в рынду, и с видимым удовольствием прислушивается, как густой и низкий гул расходится по двум коридорам-рукавам плавучей больницы. ― По глазам, Забияка, вижу: хочешь жрать!
― Так точно!
― Хы! Ещё бы! Из твоего брюха на всю палубу бурчит! Марш на камбуз!
― Есть!
― Найдёшь Ляксу, доложишь: от меня! Пусть накормит борщом: только из той кастрюли ― с большими якорями! Знаю я вас: африканцы и китайцы всегда хотят жрать! Даже причалите ко мне ночью беременную шоколадку, якобы рожать, а сами всей командой ломитесь на камбуз: усядетесь и уплетаете холодный флотский борщ, только подавай. Вам даже не интересно, кто родился, моряк или морячка: в любую качку, пока весь бак ни слопаете, из-за стола вас не прогнать…
Я, кажется, успешно вживаюсь в образ негра: и жрать хочу, и ищу медпомощь! Но каков Варяг! Сейчас ещё прикажет мне обедать с аппетитом тихоокеанской касатки и вообще! Припоминаю: во времена Союза, иностранные рыбаки в путину всё старались жаться к советским кораблям ― знали, случись что, у нас, по бескорыстной дружбе, всегда на борту есть судовой врач, а у них, из экономии на здоровье моряков, нет даже завалященького фельдшеришки. Весь рыболовный мир горевал, когда рухнул Союз, и новые капиталистические судовладельцы опустили русских моряков в скупердяи, обычные для мирового океана.
А Варяг уже расходится вовсю и не по теме:
― …Из любого салаги-карася сделаю морского волка! Советские моряки задали миру образцы дисциплины и порядка! Невиданные раньше образцы! Сегодня юнга борщ по-флотски не доел ― завтра стал шпионом…
― Смерть шпионам! ― вырвалось из меня непроизвольно.
― Смерть! Либерал на палубу ступил ― готовься утонуть! Капитан страны должен отслужить сначала от юнги до старпома на «Варяге»! Тогда поймёт управление и дисциплину, братство народов… ― всё!
И тут я чихнул на левый борт! А чихание при отплытии на левом борту ― верный признак кораблекрушения! Варяг сразу умолк, насторожился и стал прислушиваться, открыв даже от напряженья рот. Я замер тоже, но кроме обычных для больницы звуков и отдалённого журчания воды ничего не внял.
― Полундра! ― вдруг, сдержанно и без всякой паники объявляет сам себе Варяг. ― Пробоина в трюме! ― И тогда выводит коротко витиеватую мелодию в боцманский свисток. А, услышав свисток, расправляет плечи, тянется кверху и приказывает сам себе. ― Установить место и размер аварии! Вызываю огонь на себя! Полный вперёд!
Тут же он снимает со стены спасательный круг, вытаскивает из широченной своей драпины связку ключей и фонарь, и топает, в перевалку, к двери временного морга.
― Старпом, разрешите с вами?! ― отзываюсь на полундру я.
― Отставить, Забияка: действуй штатно! Случись аврал ― свисну! Открыть люк!
И Варяг уже гремит замком. Я же снимаю евротуфли, ставлю их в народный полукруг и на скрюченных цыпках ― холодновато на плитке в тоненьких носках! ― направляюсь к двери с такой же по форме, как у морга, белою табличкой: «Приёмный покой». С названием, по-моему, погорячились! Ожидаю скорее «беспокой». «Заделать пробоину!» ― слышу задним ухом, как уже в морге самокомандует Варяг.
Да, быть морским волком очень интересно: стихия, кортик, флотское братство, мель, «полундра!», суд…
После двукратного вежливого стука, ответа не дождавшись, захожу в приёмный покой. Как и ожидал: голые крашеные стены, стол под клеенкой, два облезлых стула сталинских времён, кушетка без подушки, мутное зеркало на стенке, под ним железный рукомойник ― всё! За столом согнулась юная такая медсестрёнка: старательно, прикусив язычок и не поднимая глаз, пишет, верно, больному приговор в канцелярский нелинованный блокнотик, замест утверждённой начальством ещё в прошлом веке медицинской карты. На её головке пизанской башенкой прикособочился белоснежно накрахмаленный колпак, на коем неопытной рукою красным шёлком вышито кривоватое сердечко, пробитое насквозь брутальною стрелой, под ним естественная надпись: «I love you». Зато макияж у сестрёнки ― типа «боевой раскрас», как у кобры, атакующей в пустыне обречённую хромую жертву. Приятно бывает видеть даму в боевом раскрасе! Но в целом, с имиджем у девы не ахти: косой её колпак, ломая пропорции лица и тела, цельное впечатление убивает наповал. Особливо страдают пухленькие губы ― они такого ярко-кровавого оттенка, коим правильная девушка в очках, что стоит у ворот больницы, даже в кромешной тьме под паранджой не накрасилась бы сроду. У ножек медсестрёнки стоят выходные туфли на высоком каблуке; как я вошёл, дева, на автомате, уставила в них свои ступни, выдернув из пёстрых тапок.
Здороваемся: я без воодушевленья, она ― опять же машинально, не поднимая головы от блокнота. Протягиваю медицинский полис. Берёт и, ещё не пробежав строки, вдруг звонко кричит в сторону приоткрытой двери:
― Лякса, Лякса! Разбуди Пипетку! Она в ординаторской лежит! У нас показания на сухую гангрену верхних конечностей! Ну да, ― с воодушевлением объясняет мне девушка, переходя на чистую латынь, ― это некрозис, сухой некрозис! Мы в медучилище некрозис на той недели проходили. Я даже фотографию в атласе помню, и внешние признаки могу перечислить: сухая, сморщенная, тёмно-коричневая кожа, а выпот и струпы ― как при влажном некрозисе ― отсутствуют. Вам повезло: при сухой гангрене немедленная ампутация не показана ― будем калёным железом прижигать.
― Надеюсь, до бела калёным ― инфекцию не занесёте?
― Да не бойтесь вы: если даже отключат свет, газ и воду, у нас всё равно к стерилизации инструментов и прижиганиям круглосуточная готовность ― костры всю ночь горят!
― А, может быть, сразу ампутировать, дабы некрозис по всей руке не разошёлся?
― Если врач решит ампутировать, то резать и пилить будет вот здесь, видите: по линии образования демаркационного вала… Ура-ура-ура! Я нашла некрозис!
Калёным железом прижигать?! Пилить?! Врачевателю надо прояснить!
― Это, девушка, не демаркационный вал, а след от ремешка часов, ― говорю как можно деликатней, дабы не остудить профессиональный энтузиазм сестрёнки. ― Я негр: глаза поднимите. Ну видели вы разве в атласе некрозис целой говорящей головы? Мне бы, собственно, просканировать селезёнку на предмет разрыва. Вот медицинский полис…
― Пациент, вы к нам лечиться или спорить?! ― моргает дива глазками американской куклы на меня. ― Гангрена посерьёзней какой-то селезёнки! Где, где в вашем полисе написано, что вы негр? Может, вы в Турции всё лето загорали! А что редкая фамилия, так у нас целый аул с редкими фамилиями. В нашем медучилище, в библиотеке, остался всего один атлас, да и то половину страниц выдрали на рефераты и шпаргалки: некрозис, может, и у целой головы бывает ― я знаю?! Всего не знает ни один врач на свете! И мне было бы с чего реферат писать…
― А вам самой уже доводилось калёным железом прижигать?
― Нет ещё: я на испытательном сроке ― третье дежурство только. Врач поручит ― и прижгу! Видели бы, как в Блядуново, я одному толстому нахалу сигареткой шерсть прижгла ― вот была умора!..
Дабы возразить построже, я уже собрался было внезапно овладеть тамбукакским языком, но тут сестрёнка стянула налезший со смеху на глаза колпак и принялась оправлять причёску. Она сразу обрела облик несовершеннолетней девушки ― трогательной и беззащитной, вопреки раскрасу. Её осветлённый волос оказался заплетённым в полусотню тоненьких косичек, очень непослушных, похожих на концы верёвок из пеньки. Родной африканский мотив! От девушки даже тихонечко кольнуло как от моей Блондины ― далёким впечатлением несбывшейся мечты… Невольно подобрел, себе во вред:
― А Пипетка ― она дежурный врач?
― Сегодня ― да. Скорее бы уж ей стать главным.
― Заслужила?
― Пипетка храбрая! Запросто лечит всех! Другие врачи, чуть осложнение: подожди, не навреди… А как прикажете лечить?! У Пипетки всё наоборот: покуда пациент терпит боль ― лечи! Вот приватизирует она больницу ― и залечим всех!
― Дежурный врач ― и спит?
― Нанюхалась эфира… Ладно, позвоню Малуше.
Малуша! Я заинтигован: даже боль в селезёнке отступила. Малуша ― славянское женское имя времён покорения славян русами-викингами. Повеяло хоть дальней, но роднёй! Малуша Никитична ― сестра Добрыни и мать князя Владимира, крестителя Руси. Владимир поставил Добрыню главным воеводой, первого славянина на сём посту, вместо викинга Свенельда. В русской былинной традиции, рядом с Владимиром и Малушей, помимо Добрыни Никитича, стоят герой «с печи» Илья Муромец и герой «от сохи» Микула Селянинович. Такой вот завидный эпический ряд окружает Малушу. Будь у меня дочка ― назвал её Малушей, будь сын ― Добрыней.
После звонка разговорились… Пипетка ― молодой хирург! Только Малуша, заведующая хирургическим отделением и коренная местная врачиха, отстранила Пипетку от всех, на фиг, операций, а сегодня даже не разрешила ей резать простенький аппендикс! Во время сложных дежурств Малуша стала усыплять Пипетку хлороформом и вязать простынями, дабы не мешала и не натворила дел. Как за что?! Знаете, как Пипетка быстро лечит? Р-р-раз ― и пациент готов! Тогда я интересуюсь: и так быстро Пипетка лечит без разбора всех? Нет, у нас специализация. Вот, Варяг: ненормальный, его место в «дурке», а Малуша держит у нас. Он вечерами бьёт отбой в рынду, а потом ещё ходит по коридорам, во все двери заглядывает, проверяет нарушителей распорядка, кто не угомонился, и иногда путает команду: вчера, вот, заглядывает в палату номер шесть, там мужчины после отбоя на анекдоты ржали, и вместо обычного: «Лечь в дрейф!», как на них рявкнет: «Отдать концы!» Куда это годится: больные впечатлительны! Такого ненормального лечить даже Пипетка не возьмётся. Он красит всё, что видит, ― флотская привычка, ― из-за этого дорогих духов вплотную от меня мужчина не учует. Жалко: районное начальство к Пипетке не прислушивается, и не даёт ей приватизировать больницу, а спонсоры у Пипетки на здание с парком есть. Она сколько жалуется на Малушу ― и в район, и в область, а начальство держит сторону Малуши. Пациенты боятся Пипетку страшно ― ну и пусть! Зато и уважают: пришла в палату ― и сразу назначила радикальное лечение. У Пипетки в палатах дисциплина! Нарушителя-мужчину ― в парк, заготавливать дрова, женщин ― мыть полы или на кухню. Она ещё поступит в ординатуру ― прочистит здесь всем!..
«Какая пипетка не мечтает стать клизмой!», ― думаю афористично. С докторами пора особо разобраться! Сколько нашего брата слегло и полегло от одних только так называемых «врачебных ошибок». Сегодня врачебная ошибка трактуется как неправильные действия или бездействие врача при исполнении им своих профобязанностей, не являющиеся следствием его недобросовестности и не содержащие состава преступления или признаков проступка. Мол, не то лекарство, по добросовестной ошибке, прописал, больной умер, а доктор не виновен ― он же не нарочно! Я полагаю: Антимонопольный комитет должен запрещать эксклюзивную практику таких Пипеток. Не без их усердия процент врачебных ошибок в России чудовищно велик. Начальство, знаю, уже хватилось и скоро восполнит отсутствие в стране системы контроля качества оказания врачебной помощи и вообще. И то: за розливом пива уже следят, а за оказанием врачебной помощи…
― Вы хотите, как Пипетка, лечить только за деньги? ― любопытствую на миропонимание подрастающих врачей.
― Конечно! Врачи, по-вашему, не люди ― не хотят красиво жить? Весь малый, средний, крупный бизнес, все политики, все СМИ ― вся передовая часть современной России ― все законно обогащаются, как могут, а вам по старинке кажется, что медики, учителя и почтальоны ― это должен остаться советский заповедник рыцарей без страха и упрёка, и мы должны трудиться на своём посту за одно спасибо. Цивилизованный мир вон уже куда шагнул, а почему у нас в бюджетной сфере всё должно оставаться неизменным? Долг, долг, клятва Гиппократа… Вы посидите на приёме хоть одно дежурство!..
― Жизнь свидетельствует о другом: кто хорошо работал за невысокую зарплату, тот и после её повышения будет трудиться так же хорошо. А вот кто «высиживал» часы, тот и дальше будет заниматься тем же, сколько ему ни заплати…
Тут в наш беспокой заходит нежданная в таком месте дама. Как ей подошла бы капитанская форма времён Великой Отечественной войны! Моя Малуша ну точь-в-точь уставшая до смерти военврачиха из кадра добротного Мосфильма: только под накинутом халатом не хватает квадратноплечей, с погонами, фронтовой шинели и небольшой кобуры на поясном ремне. Войны нет, а смотрятся по-военному. От Малуши исходит всё, что так мужчины любят! Дама не только с суровым выражением лица и открытым взглядом больших серых глаз, но и со строгой и как бы открытой навстречу всем фигурой, какие лично я исключительно ценю. Высокая, ладная, добротная вся, с развёрнутыми неузкими плечами, на ровной ноге средней полноты в пепельных колготках, с двумя округлыми коленками, равномерно толкающими полы светло-зелёного халата, в круглоносых кожаных туфлях тёмно-зелёного цвета на невысоком каблуке с одной пряжкой поперёк ступни. Это я ещё фонендоскоп на гладкой шее опускаю! Шикарная дама, особливо, здесь ― на убойной передовой российского здравоохраненья…
― Что за маскарад? ― спрашивает строго, едва взглянув на мою просительно стоящую особу. Но затем глаза опускает на мои скрюченные холодом пальцы под хлопчатобумажными носочками с Нюриной ноги ― и тоже в глазах добреет. ― Запах от вашего костюма странный… Вы больше похожи не на больного, а артиста труппы…
― Похож на трупа?!
― ?!
― Шучу, шучу! Это я вживаюсь в образ негра. Но гангрены нет!
― Помилуйте, какой гангрены? Вы приехали из Москвы играть «Отелло»?..
Быстро разобрались, что обоим не до игр. Малуша говорила на своём от природы низком сопрано: резко, с хрипотцой, не смягчая и не сюсюкая, как большинство дам стелит свою речь на людях.
― Так, на что жалуетесь? Осмотреть селезёнку? Это в Непроймёнск ― у нас и аппарата нет. Из палаты в парк через несущую стену рука пролезет ― какие аппараты? Видели бы вы в лаборатории нашу латаную-перелатаную центрифугу, мою, наверное, ровесницу: анализы делает через два раза на третий. Чем лечить ― бинты расслаиваются, шприцы через один дырявые, бесплатных лекарств нет, на свои покупаем. Какой санэпидрежим ― больной приносит с собой всё постельное бельё. Поставишь тут диагноз на селезёнку…
― Бюджет здравоохранения как заколдован, ― пытаюсь я шутить, ― его почему-то везде и всегда немножко не хватает. А меценаты у больницы есть?
― На днях Голландский дом оказал очередную помощь: одноразовые шприцы завезли, триста коробок ― уже наполовину растащили… Муж мой, у него строительный кооператив, привозит материалы, даю ему в подмогу ходячих больных, добровольцев, ― латают в стенах дыры, чинят крышу, кто во что горазд. Ещё благодарные больные иногда подкидывают по мелочам или работают бесплатно. Богатые больные у нас не лечатся.
― Понимаю: не умеете привлечь толстосумов ― гордость мешает.
― Гордость?.. ― Смотрит на меня с великим любопытством. ― И гордость! Но скорее, жажда справедливого порядка. ― Малуша опять пристально смотрит на меня, прежде чем продолжить. ― Прошлой ночью приснился сон… У меня есть подруга ― школьная директриса, неутомимая трудяга по части добывания внебюджетных средств для нужд муниципальной школы. Всё норовит меня подучить: как следует работать со спонсорами. Только характер мой, видно, не позволяет… Приснилось: в выходной денёк мы с ней прогуливаемся по Жабьему болоту, клюкву собираем, болтаем, и вдруг она ― тш-ш-ш! ― указывает на полянку, всю в зелёной травке и цветочках, шепчет: «Видишь, спонсоры летают! Давай осторожненько, не вспугни!» Давление у меня даже подскочило, пульс участился… ― крадусь за ней. На полянке, как повнимательнее присмотрелась, действительно, над жёлтыми цветами летают мужички ― все молоденькие, чистенькие и такие махонькие. Когда вышли к ним, подруга стала мне показывать, как нужно спонсоров приманивать: легла на траву и ну кататься на спине, будто кошка. Спонсоры сразу оживились. Потом, как она села, улыбнулась и запела, и протянула к спонсорам руки, двое из них спикировали ей на ладошки, а ещё один уселся на плечо. Я решила стыд свой, наконец, преодолеть ― всё одно, знакомые не видят, а подруга верная, не выдаст: и тоже немного покаталась на траве. Но спонсоры меня не захотели почему-то. Я даже не столько расстроилась провалу, как обиделась. Страшно раздосадовала на себя: мне, порядочной женщине, хорошей жене и матери трёх детей, в сорок почти лет, пришлось кататься по сырой траве перед этими… В резиновых-то сапогах, в джинсах на подкладке! Докатилась, мать! За что мне всё это?! Ну, думаю, спонсоры, держитесь у меня! Стала я подкрадываться к ним и хватать за ножки. А ножки тоненькие ― сразу отрывались. Одного я всё-таки поймала ― в кулак. Повертела им так и сяк: тот вырывается ― боится, что ли? Да нужен ты мне! Выпустила… Такие вот наши меценаты. Уже и голодных опять стали привозить!.. Меня не учили в советском мединституте, как спасать больных от голодной смерти. Милиция недавно привезла в УАЗике больного, мужчину, лет сорок пять, подобрали в придорожной канаве, на Кольце. Я дежурила в ту ночь. Страшно было подходить, раздевать. Вши сыпались как… Медсестра-студентка со страху убежала в парк, на костёр. Я вызвала Ляксу. Больной шептал: два месяца почти ничего не ел, дайте умереть… Цвет лица землистый, глубоко запавшие глаза, лицо заострилось, оброс щетиной ― исстрадался, бедняга. В лёгких ― какое-то жуткое бульканье. Колоть витамины? Лякса: нет, сначала просто накормить, у меня каша манная осталась, сейчас ещё разбавлю молоком… Через минуту принесла кашу. Я за эту минуту передумала полжизни наперёд, позвонила в реанимацию: у меня больной, вероятно, потребуется ваша помощь, диагноза не могу поставить, но истощение налицо, готовьтесь; обещали сейчас же подойти с каталкой. На второй ложке каши больной совсем медленно открывает рот, но заваливается на спину, теряет дыхание. Огромные глаза смотрят в потолок. Пульса нет, дыхания нет, тоны сердца не прослушиваются, артериальное давление ноль. Реанимационные мероприятия безрезультатны. Умер вот здесь, на этой кушетке. Милиция сразу же сбежала, чтобы не впутываться: дали мне только подписать бумажку, что приняла живого ― с них взятки гладки. Закрыла глаза умершему, вызвала Варяга, он уложил на каталку, спустил в морг ― всё… Даже и не в морг, морг опечатан: в подвал опускаем…
― А главврач кто и что?
― Главных присылают к нам вроде как в ссылку. Очередной оформится ― и сразу отбывает на «повышение квалификации». Полгода, а то и год себя наповышает ― и назад, в область, или куда подальше. Уже лет шесть больница на мне. Опять глубокая осень ― а ни картошки, ни овощей, ни сливочного масла район для больницы не запас. Глава района наобещает ― и уйдёт, пришлют другого ― тот всё по новой обещает… Просилась вернуться из замов к себе в отделение ― начальство ни в какую. Да и сама вижу: уйду ― всё рухнет…
― А по части вашей хирургии что-нибудь удаётся сделать?
― В моём отделении преобладающий вид операций ― аборт. Изнасилований стало больше и садизма ― кавказский рынок добавляет. Так безграмотные джигиты из городского аула утверждаются в современном мире ― за счёт наших девочек: бьют, насилуют, издеваются, отбирают вещи, кто отчаянно сопротивляется ― тех могут и убить. Из горных Маугли нормальных равнинных россиян уже не выйдет. Маугли ― это диагноз: его интеллект ещё в детстве инстинктами убит. Родители пострадавших девочек уже трижды поджигали ночью городской аул, по выбегающим стреляли… Молодёжь в районе слабосильна, слабоумна: недоедают белков и витаминов, а на одной клетчатке разве поумнеешь… И среди взрослых всё больше отклонений: весной привезли женщину ― тридцать восемь лет, муж, двое детей, «соблюдала пост», вес двадцать четыре килограмма ― так и умерла у нас от истощенья.
Войны нет, а мрут по-военному.
― А где взять правильно обученные кадры? ― Малуша уже стала розоветь.
― Мединститутов же полно.
― А как учат?! Вот наша Пипетка: выучилась на тестах ― какой она хирург! При тестовом обучении студент-медик не познаёт организма в целом ― только исследует симптомы и приводит их в «норму». Ага: высокая температура? ― сбивать! низкое давление? ― поднимать! Живот болит с правой стороны ― у них подозрения на один аппендицит! Сегодня утром был вызов на село: острый приступ аппендицита. Привезли девочку семнадцати лет. Благо Варяг, минуя Пипетку, сразу поднял её ко мне в отделение, я пришла ― создатель! ― у девчонки уже воды отошли! Так на операционном столе роды и приняла: оказалась беременность девять месяцев, мальчика родила на три двести. А случить Пипетка ― стала бы резать аппендикс?! «Что у нас тут: большой живот? Наелась чего-то, дура! Газы после будем выпускать ― сначала аппендикс резать!» А у самой ― истерики через одно дежурство, за операционном столом от перевозбуждения и страха может в обморок упасть на вскрытую брюшину: куда такая нервная ткнёт скальпелем ― бог весть!..
― Ошибочные диагнозы есть и посерьёзней: чёрная рука ― гангрена!..
Во второй раз услышав это слово, Малуша вспыхивает. Врача не доводи! Уже с гневом обращается к дежурной медсестрёнке:
― В чём дело?! Опять чего-то, красавица, не знаете?!
― Мы признаки негров в училище не проходили, ― ни капли не оробев, и даже с некоторым вызовом, отвечает дева. ― Зачем нам в городе больные негры?
― Кожа у больного, точно как ваше личико, покрыта кремом ― тональным, шоколадного цвета! Понятно вам?! Вот, наказанье!.. Так! Дежурная сестра, осмотрите у больного селезёнку! Внутренние-то органы в училище проходили? Они у всех рас одинаковы.
― Когда проходили внутренние, красивых девочек всех увозили в клуб…
― В Блядуново?!
― Да. Там, после лета, девчонок не хватало. Попала и я, конечно!
― Конец лета и сентябрь ― у меня в отделении одни аборты… Выморочный народ… Сестра, вот практический случай: дежурного врача на месте нет, он на обходе, а к вам, в приёмное отделение, поступил больной ― предположительно, с острой селезёнкой. Осмотрите у больного селезёнку!
― Ладно. Та-а-ак… селезёнка… ― озадаченно морщит кукольный свой носик дежурная сестра и даже зажмуривается, верно, припоминая не выдранные покамест листы из того атласа, единственного в медучилище и рокового для неосторожных приболевших граждан. ― А-а-а! Пациент, встаньте на кушетку в колено-локтевую позицию, спустите брюки и трусы, и руками разведите половинки…
Приятно бывает видеть даму в угнетённой позе! Но самому перед молодыми женщинами, простите, со спущенными портками, раком встать ― это на узкого любителя, я не из таких. Конечно, калёного железа я счастливо избежал, но и селезёнку через зад искать ― чревато! Ведь учащиеся сёстры и братья могли сей орган в самом нештатном месте в злополучном атласе из баловства пририсовать… Малуша грозно выручает:
― Сколько раз вам повторять: не пациент, а больной! Ещё скажите: клиент! Пациенты ― в платных клиниках, а у нас муниципальная больница. Ну довольно! Испытательный срок вы не прошли: поработаете ещё полгода няней, под присмотром Ляксы. И, наконец, девушка, возьмитесь за учёбу! Я не буду держать сестру-проститутку, которая работает совсем не тем местом!
― Нет, тем! А каким ещё местом я денег соберу на обученье в вузе? Муниципальная больница мне подарит, что ли? Пипетка рассказывала мне, на чтó в мединституте шла, чтобы только доучиться!.. Вы-то все сами выучились за бесплатно! А наше поколение обдирают по сто раз как липку ― никакой коры не хватит!
― Замолчите!
― Всё равно не буду горшки за стариками выносить: не для того выбирала медицину!..
Тут из коридора раздались крепкие шаги и самокоманды Варяга: «Прямо по носу дверь! Стоп машины!» ― и почти сразу обе створки распахнулись настежь с таким неслабеньким бабацем. Явился старпом ― в мокром, по колено, клёше, с сигнальным фонарём в руке -– и, не перешагнув порог, приняв стойку «смирно» и залихватски топнув, Малуше рапортует:
― Товарищ капитан-врач! Заделать пробоину собственными силами невозможно! Отсутствует штатный инструмент! Входная водопроводная труба лопнула по шву! Открылись три свища! Затапливает два отделения трюма! Необходимо перекрыть задвижкой подачу воды, участок трубы в трюме заменить! Заваривать пробоины бесполезно! Предлагаю срочно вызвать ремонтную команду! Плавучести осталось на три часа! Полундра! Свистать всех наверх!
― Благодарю за службу, старпом! ― став перед Варягом натянуто, расправив плечи и тоже ударив по напольной плитке каблуком, отчеканивает в тон рапорта Малуша, и тогда оборачивается к медсестре. ― Звоните на водоканал, скажите: топит подвал и морг, немедленно ― аварийную бригаду! Потом найдите Ляксу: пусть соберёт наряд ходячих добровольцев ― и на колонку! Живо у меня! Опять остались без питьевой воды…
― Вода не утоляет жажду! ― выпаливает с неожиданной суровостью Варяг, опять притопнув и вытягиваясь ещё «смирней».
― Знаю, друг мой, знаю… ― Малуша, после новости, уже взяла себя в руки, опустила плечи и, с красивым движением головы и через силу улыбнувшись, повела Варягу рукою на кушетку. ― Присядь, старпом, на банку, подсушись.
Говорит Варягу: «друг мой», как Маруся мне ― тем же личным, почти интимным, тоном, из глубины груди, нет, из самого живота своего! Разве что ещё с нотой бесконечной усталости и безнадёги. Чудеса: у шикарной женщины, готовой героини четырёх, по меньшей мере, неписанных романов, в друзьях ― уволенный на причал седой больной моряк. И он ещё обласкан Златкой! Видят обе: полоумный ― и всё же приласкали. Чем он их взял: своим героическим прошлым, преданностью чукотской лайки, всегдашней готовностью верно служить и помогать? Какой-то у нас в стране олигофрендшип из женского состраданья! Может, зря я так горжусь своим здравомыслием и умом незаурядным? Это Варяг, значит, помогает Малуше вязать в ординаторской смертельно опасную для больных Пипетку…
― Когда сухое днище, Варяг не готов к походу! Я должен проверить в канатном ящике наказанную Пипетку. Согласно корабельному хронометру, она должна через пять минут проснуться. А ты, Забияка Тамбу, шагай на камбуз, а то и тебя в канатный ящик засажу! По местам стоять, с якоря сниматься!
Надо собраться! А то с одного задания весь скрюченный после отсидки в сундуке вернулся! Варяг уже приложился к бескозырке, закрыл дверь и, продолжая отдавать самому себе на каждый почти шаг команды, утопал в коридор. Он, похоже, как массовик-затейник в советском санатории, вносит в больничную жизнь изрядный оживляж. Вослед старпому металло-цоками усеменилась и сестрёнка.
Я остаюсь наедине с Малушей. Экий в ней шик военного покроя! Уважаю! Встреть я на большой дороге такую даму за рулём ― не сверну, по обыкновению, прятаться в кювет.
Разговорились. Детской больницы в городе нет: при Советах была ― демоны закрыли. Теперь у меня, говорит Малуша, в детском отделении в палате на три человека лежать двенадцать: шестеро детей и шесть родителей. Родители спят на полу, на раскладушках, как придётся, вечером разбирают раскладушки, утром Лякса с Варягом стаскивают их в подсобку. Полы, окна в палатах моют сами. Стены больницы в плесени, боремся с сыростью, грибками как можем. Вся черновая работа в больнице ― на старой няньке Ляксе, она и живёт здесь. Малуша не сомневается: в стране происходит утилизация «лишнего» населения. Если сформулировать это как цель, то становится абсолютно понятной «реформа здравоохранения» ― с уничтожением на уровне районов специализированной помощи: урологии, кардиологии, гинекологии, педиатрии, женских консультаций… Стандарты лечения в медицине ― это верный путь деградации самой медицины. Как нет стандартов у художника, не должно быть стандартов у врача, кроме одного: больной должен выздороветь. Если врач будет лечить только по утверждённым где-то и кем-то стандартам, он перестанет быть ответственным врачом. Стандарты лечения ― это узаконенная безответственность врачей.
Потом Малуша взялась спасти меня от канатного ящика за невыполнение приказа Варяга: «хотя бы накормить», коль уж обследовать внутренние органы не может по техническим причинам. Её муж, оказалось, привозит ей горячее, с большим всегда запасом: остатки благодарно подъедают непосещаемые больные, а таких немало. Предложила минут десять погулять в парке, пока няня разогреет и накроет стол.
Спускаюсь в парк, иду по боковой дорожке, графских развалин вдоль. Третьим ухом слышу, как старенький УАЗик, стукатя внутри и дребедя снаружи, подвозит новеньких больных к крыльцу ― и выгружает. Стена здания стянута решёткой новых швеллеров ― без этой стяжки, верно, давно бы уж упала. Штукатурка искрошена и пестрит разноцветными заплатками, но проникающие вертикальные трещины все забиты кирпичом и местами даже замазаны раствором. Здесь останки берёзовой аллеи борются из последних сил с зарослями поганого американского клёна. Среди кривых стволов деревьев и кустов сирени становится темнее, но впереди просвет, открытая площадка, и там маячит какая-то белесая скульптура знакомых очертаний. Тогда шагаю поскорее к свету ― куда же нам ещё шагать? На площадке сломанные лавочки, шприцы одноразовые, мусор. Старый скворечник на стволе дереве перевернутый вверх дном. И тут разглядел: это же парковая скульптура «девушки с веслом»! Скорее подхожу. Фигура сохранилась лишь отчасти: головы нет, вместо неё обломок шеи и арматурный прут, согнутый вопросительным знаком ― это, полагаю, некто «с выдумкой», взобравшись на лесенку, бил по железу одновременно двумя молотками; правая рука отбита от самого плеча ― тоже гнутый кем-то прут держит весло ― оно худо-бедно сохранилось, посоревнуемся ещё! Брутальностью форм статуя похожа на мою Марусю ― одно это уже воодушевляет меня необычайно. Даже на останках восхищают: ровная спина, разворот атлетичных плеч, крепость в груди, линия упёртой в крутой бок руки, фундаментальность ног, круглые коленки… Это я ещё гордую осанку опускаю! Непревзойдённый символ сокрушителя преград! Как же не хватает нынешним девицам гордости и самоуваженья! Апломба океан ― из телевизора прилился, а гордости ― увы. Вот и помыкают ими кавказцы, иностранцы, негры и все, кому не лень, сами не давая пользуемым девам ничего, кроме презрения, болезней и побоев, а совсем простых и оберут до нитки, и оставят без угла. Из областных центров начальство убрало «девушек с веслом», а вот по районам найти останки ещё можно. Вот вам, либеральный читатель мой, образчик сирости постмодернизма: разрушить конкурирующий символ он может, а сотворить замест него нравственно и физически здоровый спортивно-эротический символ ― кишка тонка! Как тут поправишь демографию? Одними бюджетными деньгами? Затратно! Есть способы дешевле. Например, организовывать танцы и учить всех со школы кружиться в паре, на пять медляков играть один быстряк. Дабы молодые сходились, впервые касались друг друга в танце, с красивой музыкой, располагающей к любви, танцевали, тесно прижавшись, в не прокуренной, в не заплёванной, в не опущенной, а в организованной начальством и благословлённой родителями и учителями обстановке ― и тогда уже в пятиминутном танце девушка получит предложение на интимное свидание или сразу замуж! И будут стране детки ― прекрасные и бесплатные дети любви. Цари организовывали танцы для дворян, общины ― для сельчан, коммунисты-комсомольцы были просто архипрофессионалы в организации танцев для всего народа, при них танцевала вся страна от мала до велика ― везде и всегда. Какие были танцы в домах офицеров! Советское военное начальство строго следило: молодые офицеры, пока в отдалённую часть не зашлют, обязательно должны жениться. Для того вот вам танцы ― с доставкой невест по месту службы. И дети были! Дай власть либеральному гнилью, коим русский народ олигархи заказали на убой, и они окончательно стариков добьют, а детям рождаться не позволят.
Подхожу к любимому символу поближе. Опять не то! На обломок цилиндра шеи девушки наброшен и завязан петлёй пеньковый трос, конец его коротко оборван ― не обрезан. Неужто, местное ретивое начальство на волне победившего, как оно думает, либерализма хотело символ здоровья русской нации свалить? Тянули, видно, тракторёнком, как водонапорную башню в Гнилом, да тросик лопнул, а на замену не нашлось. Постамент и ноги статуи, где лепнина сохранилась, испещрены, в основном, матерщиной и приколами, но есть и слово о любви! А что повыше? Влез на пьедестал. Вижу со спины: между ладонью левой руки и бедром, в кое она упёрта, зияет протёртая щель ― как раз для пятерни моей. Это неспроста! Лезу пятернёй ― тайник! Лентой широкого пластыря изнутри к бедру прикреплён пакет, в нём пузырьки и коробочки ― на ощупь. Лекарства, что ли, из «набора больного» кем-то припасены? Достаю аккуратно… Так и есть! На пузырьках: амфетамин, уксус ― его определил по запаху, и пакетик с марганцовкой, шприцы… Хотел приляпать обратно, да лента уже не клеит почему-то. Ладно, отнесу Ляксе ― пригодится. Только спрыгнул и ещё не встал с присядки, как из-за другой стороны пьедестала слышу треск кустов, шорох листьев, неровные шаги и замедленные невнятные мужские, с фальшью, молодые голоса.
― Как темнеет… ― в-м-у!.. ― своих ног не вижу, ― едва бредёт первый голос-тормоз. ― Падаю на ровном месте, бьюсь обо всё…
― Я тоже опять не спал… ― в тему, гундяво соглашается второй. ― Открылась трофическая язва…
― Мерещится: за мной следит мертвяк ― чёрный весь такой… Как глаза закрою, выглядывает из-за спины… Если смогу встать… ― в-м-у!.. ― потычу в углы лыжной палкой ― никого… Лягу ― опять мертвяк встаёт… Скальпель теперь ношу с собой… и секционный нож в прозекторской спёр…
― Насмотрелся в морге… Брось ты больницу: чего они здесь платят!
― А где всё брать? Я здесь на альтернативной службе. Привык к мертвякам уже.
― И не брезгуешь на трупаков?!
― Лично я брезгливость испытываю скорее при виде живого человека, если у него что-то не в порядке с физиологией, и при виде грязного бомжа. А вот на трупака в любом состоянии гнилостного изменения, с любым ароматом ― пусть там кал, моча, рвотные массы, пролежни, гангрена… ― на такого у меня эмоций абсолютный ноль. Жалко, что в морге вскрытия перестали делать… На ночных дежурствах ― в-м-у!.. ― самый доход был. Спирт ― всегда. А с тебя чего: берёшь ватку, наматываешь на тонкую деревянную палочку и в задницу ему…
― Школьниц потрясём. Дулька вчера вернулась из Блядуново, говорит: «Все е…сь, как перед смертью!» Кучу бабла привезла…
― У школьниц в Непроймёнске «крыша», ― вступает в разговор женский бодрячок. ― За них нас всех уроют, что твоих мертвяков, имён не спросят. Ладно, сейчас на «белом» оторвёмся… Подсади-ка…
Тут-то я и встал из-за постамента, дабы не лазила шалава по телу моей девушке с веслом:
― «Набор» ваш? ― и протягиваю девице в нос пакетик с пузырьками.
Немая сцена… Троица обмерла, ровно как бомжи с «Шестого тупика». Ну и фигуры, доложу вам, сострадательный читатель мой! Вся троица лет по восемнадцати без гака, но вид пуще чем у партизан: не прусских ― белорусских, в сырых землянках голодавших. Тощие, кривые ― я даже сразу вспомнил хутор Кривой пенёк ― стоят даже неровно: качаются на месте, сучат ножками без толку, и под глазами тёмно-пепельные, с фиолетцею, дряблые мешки… Санитарно запущенная внешность! У девицы к тому же гноятся синяки от уколов на венах шеи и, вижу, ногти обломаны и крошатся на дрожащей синюшной лапке, коей принимает от меня пакет, а из головы, замест присущей возрасту причёски, хламида-монада какая-то торчит.
― Наш, ― первой опоминается девица. ― Марганцовка-то нам осталась? Выкрасил себе даже морду… Вот лох!
― Ты… ― в-м-у!.. ― кто, чувак?
Ну, теперь ясно, отчего пацан своих ног не видит: зрачки сужены, полузакрыты веки, отвисли тонко-складчатые губы, кожа сухая и желтушного оттенка, волосы тусклые, без живого блеска… ― не лицо, а дурная маска. Второй пацан, с гундявым голоском, ― этот совсем тощий и дерглявый, со слюнявым не закрывающимся ртом, а слюна свисает и дугами-паутинками тянется куда-то на подмышку.
Из разговора выясняю… Тот додик, что с невротическим дефектом речи, работает здесь медбратом. Беги, говорит мне, отсюда, если хочешь жить: здесь не лечат, а, по большей части, добивают ― если не врачи, так обстановка. Простейшее заболевание грозит обернуться смертью. Знаешь, чем у нас делают уколы? Знаешь качество воды в кране? Знаешь, что «лёгким больным» через раз дают мел вместо лекарств и колют физраствор или вообще дистиллированную воду? Знаешь? Не знаешь ― вот и приволокся! Я половину шприцев краду на дежурствах. Сегодня дежурит Пипетка: эта дурында зарежет ― глазом не моргнёт. Она сама больная… нет ― самая больная! Училась одним местом и за взятки ― ничего не знает вообще. Туберкулёза от воспаления лёгких не отличит. Апломба зато немеряно: мнит себя великим эскулапом. Хоть бы Пипетка убралась поскорей отсюда: хочет переучиться на стоматолога, больным зубы рвать ― как раз по ней, кровожадной суке! Так и ждёшь при Пипетке: кровь не той группы перельют, или с гепатитом. Мы тоже кровь сдавали ― и не раз…
Тут в двух подвальных окнах загорелся свет. А прямо через кусты сирени ломясь, припятился к самым окнам колёсный грязный тракторёнок с помпой, на задах болтаются два замысловато переплетённых шланга, как щупальца у раненого спрута. За тракторёнком, натужно ревя, продралась мастерская на базе старого ГАЗона. Прибыла, знать, рембригада из водоканала. Следом за машинами явилась Лякса с ключами. Трое работяг сошлись с инструментом у решётки: поколошматили её своим железом без всякого успеха и стали беззлобно высказываться по восходящей ― о главвраче больницы, о главе района, о губернаторе, о президенте страны, потом, естественно, перешли на джигитов с ослиных и овечьих гор и на цыган, давно отобравших первенство у евреев, затем о ворах в лицах и вообще, как об институте, только ржавые замки, как ни смазывали и сбивали, так и не поддались, а срезать крепёж газосваркой Лякса не разрешила. Тогда один конец прорезиненной кишки просунули кое как через решётку в форточку, другой бросили под кусты, на листья, и, для придания трудового энтузиазма, покричав на обстановку невысоким матерком, запустили насос освобожденья. Машина, нарушая парковую тишину, взвыла, задрожала и припадочный насос, затарабанив и грюндося, принялся с утробной нотой выплёвывать из временного морга на сухие листья волна за волной мёртвую воду, если позволительно мемуаристу так сказать.
Пока суть да дело, оборачиваюсь: мои наркоманы, сразу понял, укололись и, не прячась, сидят на лавочке, в ожиданье кайфа, курят. Надо прояснить! Подхожу. Те, вдруг, наперебой:
― У тебя какой группы кровь? А пойдём сейчас ― сдадим? Ты от марганцовки чёрный, зато не худой… Дай потрогать…
И вся троица привстала и шатнулась на меня: один пацан схватил за плечи, вроде, как держит, второй тоже, вроде, держит, но и лезет уже во внутренний карман… Договорились всё-таки, под шумок рабочей помпы, напасть: чего-то им для полного кайфа не хватило! Девица тоже впалой грудью передо мной восстала: качается, бряцая костями, но руки в боки ― сущий атаман!
― И не думайте! ― говорю построже. ― Моя боевая кличка Бодрый Скин! Дружу с Малютой! Он здесь будет ровно через пять минут, отъехал за «набором больного»!
Пацаны отухли мигом: отпрянули на три полушага и, обескураженные, друг к другу жмутся. Зато небитая скинами девица, сильно затянувшись, как захрипит мне в самое лицо:
― Скин, тоже мне! А для народа кровь не хочешь сдать… Вы, трусы! ― оборачивается к пацанам. ― Разденем его! Вишь: как для подиума одет! Дай скальпель!
Ну, хоть санитаров с носилками на них вызывай! Меня не доводи! С молодёжью пора особо разобраться! Я не судья, но вынести и исполнить приговор сумею! Прости мне, девушка с веслом, за тем последовавшую некамерную сцену! Резко, как учили, хватаю жалкую смельчачку за жиденькую хламида-монаду и гну её жёлтую, дынькой, голову к сырой земле… «Милиция! Окружай! Санитары! Носилки! Будем забирать!» ― накрикиваю тот же почти набор слов-образов, что в «Шестом тупике». И тот же, конечно, на тройку нападает паралич: не способны даже шевельнуться.
― А ну, чудило, быстро скальпель дал! ― кричу медбрату. ― Сейчас ей отрежу, на!.. Дай сюда!
Медбрат отрешённо протягивает скальпель… Разрядилось! Тогда с побоями лёгкой тяжести выстраиваю тройку в ряд, по стойке смирного покачивания с опорой друг на друга, затем обыскиваю ― чисто для порядка. Что с наркомана взять! У медбрата из штанов выудил секционный нож ― украл, наверное, у прозектора для самообороны от своих навожденных мертвяков. Ещё набрал для Ляксы больничного имущества немного. Затем собрался было проповедь воздать по заслугам, только ― чу! ― вижу, крадётся вдоль стены больницы, навстречу водоканалу, какой-то мужик: согнулся, крутит головой, высвечивает фонарём зарешёченные ямы у подвальных окон и заглядывает через них вовнутрь.
― А те окна почему без света? Что там?! ― вопрошаю построже медбрата, сникшего в дугу осенней травкой.
― Это под детским отделением ― тоже морг.
― И часто его топит?
― А… ― как крысы побежали, значит топит… Проржавело ― в-м-у!.. ― всё насквозь… С крыши железные листы сдувает… По ночам эта крыша ― во, громыхают, как в припадке: не могу зарубиться в ординаторской на полчаса… Фундамент в трёх местах подмыло, треснул, просел, от него пошло на стены. Пожарные лестницы кто-то недавно ночью срезал ― на металлолом… Люди жрать хотят…
― А новую больницу строят?
― Начали, когда я только что родился… На последней консервации стройка уже года три. Ну приедут, врежут новую трубу, а какого?.. Новые трубы ― в-м-у!.. ― некондиция одна: быстрее старых прорывает… На качественные трубы у городского бюджета денег нет…
― Деньги теперь есть! ― говорю построже, вспомнив про «Отелло»: столичные гастролёры за мелочишкой по районам не поедут! ― Нет правильной информации снизу! С долгостроем начальство скоро покончит!
― От долгостроя бывает польза…
― Кому это?
― Детдомовцам…
― А ну развил!
― У нас теперь нет межрайонного детдома. А недавно был. Здание стало падать, необходим капремонт. Малуша предложила районному начальству: на время ремонта, всех детей раздать в семьи, и платить содержание из бюджета. И смогли раздать. Малуша себе одного взяла, усыновила. А ремонтировали так долго, что почти все дети в семьях прижились. Из трёхсот сирот неприёмными осталось меньше сорока ― их распределили по другим детдомам. Мэра медалью наградили…
По заслугам! Блестящая операция межрайонного масштаба: победа гражданского общества без каких-либо потерь для бюджета! Как важно гражданам подкидывать своему начальству дельную мыслю! С сожалением подумал о себе: не повезло сиротам с капремонтом нашего детдома. Его, помню, стройбат отремонтировал ужасно быстро, за одно лето, пока нас отправили в пионерлагерь… нет, здесь правильнее написать через запятую: отремонтировал ужасно, быстро. Не нашлось в Сломиголовске своей Малуши…
― А что мужик ищет в морге, или кого? ― спрашиваю троицу построже.
― Это Дрыныч: ― в-м-у!.. ― дочку, наверное, пришёл искать. Их вчера привезли из Блядуново, я видел лагерный вездеход… Из дому ушла, а в школе ― в-м-у!.. ― значит, не была ― исчезла… Я только с суток: морг пустой…
Пустой?! Увы мне, как независимому мемуаристу: труп оживляет любой сюжет! И заметьте, парадоксальный читатель мой: бросают на гробы живые розы!
― У вас: на полдня исчезла, значит умерла?
― Ну… может, и гуляет где… А то рванула в область ― за косметикой… тряпки тоже… вечером приедет… Девчонки с лагеря возвращаются ― в-м-у!.. ― довольные: с баблом… Да, сами показывали, ― едва мямлит медбрат и уже закатывает глаза в белки, ― бабки у них есть…
― Почему сразу в морг? Ты что ли засыпаешь? ― ухватил его за шиворот, при том наступив на ногу, дабы опадающее тело парня растянуть, коль стоит в строю. ― Тебя как лягушонка разорвать, чудило?!
Действие укола ещё окончательно не увело медбрата из бытия. Он, верно, уже начинал подозревать, но пока ещё не увидел во мне ясно преследующего его дьявола в облике чёрного трупака, и я смог выудить из него цепочку причин и следствий.
В Скукожильске поиск пропавшего всегда начинают с морга, ибо он в городе один! А все скукожильчане знают: холодильные установки на Варяге давно отключены по причине острой нехватки напряжения в городской электросети. Посему держать в морге труп никак нельзя, особливо летом ― завоняет. Посему, как только больной умер или привезли готовый труп, дадут телу в морге только до температуры подвала остыть и без вскрытия выдают родственникам, а безымянные тела заворачивают в чёрную плёнку, увозят и зарывают без гробов ― закапывает кто-то, где-то, как-то… Посему место закопки уже в следующее дежурство не найдёшь. Посему только убедившись, что тело пропавшего в городском морге отсутствует, заинтересованные граждане и службы облегчённо вздыхают и уже спокойно приступают к поискам в местах повеселей. Ещё и подбрасывают частенько трупы ― сюда, в парк или под окна морга, дабы закопали скоро и бесплатно. В городе нет частных полигонов для мусора, как в какой-нибудь Москве: в столице катки закатывают безымянные трупы по ночам, а в Скукожильске раньше тела кидали прямо в приоконные колодцы, тогда и установили решётки, дабы лишний раз тела не поднимать. На днях подкинули одну красавицу: даже глаза голубые не закрыли ― Малуша закрывала. Малуша конь с яйцами, а не баба, нордический характер, и та заплакала: «Красивая!», от живой отличалась тем, что не дышала и беломраморным цветом кожи, в лесополосе нашли, изнасиловали и убили, ветку ей воткнули между ног, наши парни так не поступают, это аул. Работники морга давно поувольнялись все, а новые не идут, из старожилов остались одни крысы. А когда-то в городской электросети напряжённый ток бежал, народу в Скукожильске было много и жил он как-то правильней и побогаче, в штате больницы были заполнены единицы патологоанатома, санитаров, лаборантов… и в морге делали вскрытия, ставили патологоанатомические диагнозы, сравнивали их с клиническими, расхождения между диагнозами были очень редки, защищали на этом диссертации… ― охранение здоровья, в общем, по всем статьям торжествовало! А теперь имущие больные умирают предпочтительно в губернии, а в районах осталась так… ― одна сволочь. Малушин муж, инженер-строитель, сделал проект ледника, какие в моргах были в царской России, сейчас в подвале копают с Варягом и инвалидной командой, зимой лёд завезут. Скоро будет у нас энергосберегающий морг…
Мемуар № 5
Новелла о Куте-прокуроре и Анне
Но Васята Смольный весь в своих мыслях:
— Кутя-прокурор рассказывал о феномене «скручивания» линий напряжённости магнитного поля над Жабьими трясинками…
— Очень может быть, — бормочет Понарошку, зевая и укладываясь на плащ-палатку. — Аномалий на Жабьем много. Есть урочища с гигантизмом растений: папоротник достигает высоты человеческого роста, клюква — с вишню, и на высоких местах встречаются осиновые рощицы с диаметром стволов в два обхвата. И волки наши крупнее тамбовских… Ты лучше расскажи о Куте-прокуроре и его невесте, я пока вздремну…
— Не успела она стать невестой…
Васята Смольный вопросительно смотрит сначала на меня, потом — на дравшую посуду Бэлу. Я киваю, а княжна с видимым волненьем задаёт:
— А у них любовь была настоящая взаимная, не как в романе… у Печорина и Бэлы?
— Ещё какая настоящая! — воодушевляется Васята Смольный, разливая по последней. — Трагическая — да, но завидная, хоть новый роман пиши! О моей дочуре такого не напишешь…
— Тогда и мне! — Княжна подставляет на розлив свою потемневшую от времени алюминиевую кружку. — Где её взять — настоящую, пусть бы и кончилась как с лермонтовской Бэлой…
— За большую взаимную любовь! — провозглашаю я бодро, имея в виду себя и Нюру. — Последнюю — до дна!
— За большую! — повторяет товарищ Смольный. — Хоть кому-то с любовью повезло!
— За взаимную… — шепчет княжна и неожиданно, зажмурив глаза, большими глотками пьёт до дна.
У товарища Смольного язык хорошо смазан и крепко подвешен, только не на предмет животрепещущего рассказа о большой чистой любви, коей при либералах в природе России и не осталось вроде бы уже. Потому, невинный читатель мой, радея о живописности картины, я, как художник душещипательного слова и дабы не вносить разностилье в мемуар, передаю рассказ товарища Смольного чисто от себя — в ярких художественных образах по форме и с небольшими собственными домыслами по существу. Можете даже считать, что Бэла слышала сию новеллу не из уст второго секретаря райкома, сильно расстроенного очередным браком своей дочки, а от меня, вашего путеводителя по новейшей энциклопедии русской жизни.
Итак, Кутя-прокурор — коренной непроймёнец из простой семьи рабочей. Сам высокий, крепкий, мастеровитый, умный, занимался на каноэ греблей. Ребёнком — за преданность семье — домашние звали его Кутёнком, но когда пошёл в десятый класс, вымахал за 190 сантиметров ростом, языки уже не поворачивались звать так — и он стал Кутей. В тот год его маму сбил на перекрёстке пьяный областного начальника сынок, гнавший на красный свет на папиной служебной «Волге». Мать Кути упокоилась не сразу, промучилась месяцы в больницах, но всё же умерла. Прокуратура отмазала убивца от тюрьмы. Кутя порывался мстить, верные друзья-спортсмены брались помочь, вёслами забить, тело — в мешок с двумя кирпичами и утопить в реке, но отец упросил этого не делать: мол, против номенклатуры не попрёшь, лучше, сын, сам выучись на прокурора и верши по справедливости дела. «Какая такая номенклатура? Где в уголовном кодексе СССР слово «номенклатура» написано хоть раз?» В это время Куте исполнилось восемнадцать лет и его забрали в армию подальше от греха. Отец остался на жилье один, переживал смерть супруги, и — полгода не прошло — как слёг и в одночасье умер. Кутя в воинской своей части получил отпуск по личным обстоятельствам и похоронил отца рядом с матерью на кладбище «Шестой тупик». В смутной ненависти к номенклатуре у Кути появился второй личный мотив. Смерть отца окончательно укрепила Кутю в решении стать прокурором, дабы вершить дела по «Русской правде» Ярослава Мудрого, а не в пользу номенклатуры, всякого начальства и толстых кошельков.
В конце восьмидесятых, отслужив в армии, Кутя поступил в Непроймёнский госуниверситет, на юрфак. В универе он сразу заявил: хочу быть справедливым прокурором. Так он стал для всех Кутей-прокурором. Девушки вились вокруг него поодиночке или хороводом. Иные нимфы бросались на шею, другие угрожали наложить на себя руки, отвергнутые — шантажировали, писали жалобы и анонимки в комитет комсомола и вообще. Но Кутю юбки интересовали мало. Его захватили мировоззренческие вопросы без ответов, особливо теория коммунизма на текущий момент. Кутя, как все здравомыслящие непроймёнцы, уже в восьмидесятые понимал: со строительством коммунизма в СССР случилась большая закавыка! И он стремился разобраться, определить ошибки и, возможно, создать новую теорию коммунизма, в коем пьяные сынки начальников на перекрёстках не давят безнаказанно людей. А если всё же давят, значит, при коммунизме для уголовников должны остаться тюрьмы? Так от ненаказанного преступления до идеи коммунизма в голове Кути протянулась логическая цепь.
Беспартийных прокуроров в то время не бывало. Посему Кутя, ещё студентом старших курсов, вступил в КПСС. Ему, на условиях, что распределится в Скукожильскую прокуратуру, рекомендацию товарищ Смольный дал.
Ещё учась в университете, как кандидат в члены КПСС, Кутя должен был регулярно ходить в райком партии на ежемесячный «партийно-хозяйственный актив». Занятие прескучное, если бы ни Бобоша Тройкин, второй секретарь обкома партии Непроймёнской стороны. Когда товарищ Тройкин приходил с лекцией на актив, зал переставал дремать или читать книжки на коленях за спинами впереди сидящих, а, замерев, слушал самую настоящую крамолу! После лекции, в фойе, слушатели качали головами и за кружкой пива с рыбкой спорили, когда Тройкина выгонят из партии, посадят и вообще. Однажды Кутя попал на лекцию о номенклатуре. Тройкин был в ударе:
— Номенклатура — не чиновничество, а правящий класс! — заявил Тройкин, в лучших традициях секретарей, грохнув по трибунке кулачищем. — Новый властный класс эпохи социализма! Социалистическая революция создала в рамках монопольно правящей партии привилегированный слой советского общества. При царизме властвовали классы дворянство и буржуазия. Советская номенклатура, партократия — очень узкая прослойка: всего несколько тысяч человек, в сотни раз меньше, чем было дворян и буржуа, но целый властный класс! В трудах Маркса и Ленина не предсказан реально правящий советским государством класс, поэтому марксизм-ленинизм в нынешнем виде бесспорно устарел. Номенклатура пишет законы для советского народа, а сама живёт по классовым понятиям. Она погубит СССР!
«Так вот почему номенклатурного сынка не посадили! — сообразил Кутя. — «Понятия» распространяются и на семьи номенклатурных работников».
Номенклатура, как класс, продолжал Бобоша Тройкин, тщательно маскирует подлинные властные отношения в советском обществе. Господство каждого класса всегда было властью меньшинства над большинством. Власть номенклатуры обеспечивается узаконенным насилием и угрозой его применения, поощрениями и наказаниями, идеологическим дурманом и невозможностью для народа свободного выбора себе начальства. Будь у нас сегодня капитализм, попы всех конфессий визжали бы с амвонов: «Власть — от бога!» Если власть дворянства маскировали под освящённую Богом власть царя и тех, кому он делегировал её, то советская номенклатура маскируется куда как изощрённей: она попросту скрывает своё существование, мимикрирует под обычный аппарат управления, какой в каждом государстве есть. Номенклатура технически началась со сталинского списка лиц, кои от имени общества профессионально занимаются управлением, выполняют организаторские функции в производстве и во всех других общественной жизни сферах. Эти люди в 1930-е годы научились властвовать и перегрызли глотки ленинской гвардии, узурпировали невыборную власть. Советская номенклатура отгородилась от народа и от всего мира, а внутри себя воздвигла иерархию социальных барьеров и чинов. Список номенклатуры — сверхсекретный документ. Для капиталистического общества основа классового деления — это собственность. Для советской правящей номенклатуры — это политическая власть. Буржуазия владеет экономикой, финансами и через них влияет на политику. Советская же номенклатура от захвата государственной власти идёт к господству в сфере социалистического производства. Буржуазия — класс имущий, а потому господствующий. Номенклатура — класс господствующий, а потому имущий. Каждый номенклатурщик-партократ имеет свой отведённый ему властвования участок. В номенклатурной среде, подле правительственной «вертушки», даже особенная атмосфера с воздухом безраздельной власти. Пресытиться можно всем: друзьями-подругами, имуществом, едой, питьём, искусством, но не властью. Главная психологическая черта номенклатурщика — карьеризм. Это и негласный критерий подбора номенклатурных кадров из «групп резерва», из «обоймы». Там собирались люди с пристальным отношением к своей биографии и благоволением начальства, а лучше — родством с последним. Женитьба на дочке номенклатурщика или роман с номенклатурной дамой — верный путь во властный класс времён развитого социализма. «Ну как не порадеть родному человечку» — эта грибоедовская бытовая формула укладывается в мафиозную идеологию номенклатуры: вокруг должны быть только свои.
Кто-то из молодых слушателей, смущаясь, попросил товарища Тройкина рассказать об особенностях номенклатурных браков.
В СССР, ответил Бобоша Тройкин, постель — единственное место, куда не влезло государство. Кроме номенклатурного, конечно, брака. Он выгоден и мужу, и жене. В номенклатурном браке семья строится традиционно-буржуазно: муж-номенклатурщик работает, обеспечивает семью, женщина ведёт детей и дом. Деток учат языкам, этикету, музыке, большому теннису, фигурному катанию и танцам, возят на курорты, зачисляют в лучшие школы в центре города, «поступают» в престижные вузы, где они общаются строго с выходцами из «хороших семей» таких же. Муж-номенклатурщик знает: развод может ему карьеры стоить. Даже скоропалительный развод его дочки может отразиться на карьерном росте. «Дурной пример подаёшь! Дочку неправильно воспитал, как же ты партию собираешься воспитывать?» По-настоящему вопиющей считается ситуация, когда в номенклатурной семье дочка-школьница «принесла в подоле». Хотя в номенклатурных семьях культивируется «крепость» и «верность на всю жизнь», гулять на стороне не возбраняется, но чтобы тихо: без скандалов, беременностей, анонимок в партком и КГБ. Институт брака в СССР расползается по швам, а номенклатурный брак пока что держится — есть за что держаться. Если девушка приезжая, например, студентка или — тем более — лимитчица, а юноша происходит из «хорошей семьи» столичной, номенклатурное окружение сочувствует жениху: «Поймала всё-таки…»
Для Кути, мечтающего об обновлённом коммунизме, всё что буржуазно — неприемлемо от и до. «Никогда не женюсь на дочке номенклатурщика!» — думал Кутя, вспоминая убиенных родителей своих.
Позже товарищ Смольный познакомил Кутю-прокурора с Тройкиным лично.
На летнюю практику Кутю направили в прокуратуру Скукожильского района. Прокурор находился в отпуске, первый секретарь райкома партии — тоже. В обеих структурах расслабленность царила, а тут ЧП — пропал уважаемый в районе человек, коммунист. Родственники подозревали убийство, энергичная родня требовала от райкома партии на следствие нажать. В райкоме товарищу Смольному поручили контроль за делом. В прокуратуре же дело отписали новенькому следователю-практиканту — пусть поломается на «висяке». Так впервые сошлись интересы товарища Смольного и Кути-прокурора. Уже к позднему вечеру того дня, как Кутя принял дело, он позвонил Смольному и доложил:
— Я нашёл свидетелей. Машину с пропавшим в последний раз видели в Гнилом. Она шла по полевой дороге в направлении Потёмок. Вероятно, двигалась на лесопилку, предположительно, чтобы купить сосновый сруб и осиновую доску для дома и бани. Пропавший без вести накануне со сберкнижки снял деньги. На лесопилке, я звонил, утверждают: покупателя не видели. Завтра утром еду в Потёмки с нарядом милиции и бригадой криминалистов. Вы со мной?
Утром правоохранительно-партийный десант прибыл в посёлок лесорубов. Кутя-прокурор и участковый опросили потёмкинцев и приезжих. Среди последних оказалась научная экспедиция зоологов МГУ: они приезжали в Потёмки уже много лет, в любой сезон, изучать волчью стаю на Жабьем болоте. Возглавлял экспедицию профессор. Оказалось, такой долговечной стаи волков больше в мире нет: ей более трёхсот лет.
Летом профессор брал с собой племянницу Анну, школьницу старших классов. На неё-то Кутя-прокурор и товарищ Смольный наткнулись в одном из домов, где экспедиция расположилась. Худощавая среднего роста точёная блондинка с большими приветливыми серыми глазами, тихая и улыбчивая, гладенькая длинноволосая русалочка, «с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе», как писал Фёдор-наш-Достоевский о девице Варваре Ардалионовне в романе «Идиот». Как увидишь Анну такую — помирать неохота! Только на немеряных скукожильских просторах девушка-москвичка выглядела как девочка совсем. А особливую странность облику Анны придавала золотая подвеска на её груди: изящная сказочная русалка с половину мужской ладони величиной на красивой цепочке висела на шее девушки, играла в лучах солнца чешуйками хвоста.
Впервые услышав имя избранницы Кути-прокурора, я, как классик современной русской литературы, насторожился ещё как! Из всех женских имён у нас самое подходящее для несчастной любви имя — Анна. Толстовская Каренина, чеховская Сергеевна, есенинская Снегина… Увы нам, знающим толк в женщинах холостякам: Анны во возлюбленных долго не живут. Кто всю жизнь прожил без своей Анны, тот меня поймёт.
Товарищ Смольный отметил по себя: Кутя-прокурор, заполняя «шапку» опросного листа, обрадовался, что Анне оказалось уже полных семнадцать лет. Она собирается поступать в Суриковский институт, хочет стать художницей-флористкой. А в Потёмках сейчас рисует травы, насекомых, птиц — для творческого конкурса перед поступленьем. Пишет акварелью. Выходит прозрачно, воздушно, нежно. Говорит: с удовольствием написала бы и волка, но дядя на Жабье болото её с собою не берёт: «Это скучно и опасно». Сам ходит туда со своими аспирантами в сопровождении егеря с ружьём — мало ли чего. Посреди топи учёным нужно выискивать следы, у волчьих троп подолгу лежать в засаде или, как снайперам, сидеть в оборудованных лабазах, переносных засидках на деревьях, оборудованных так, дабы зверей сфотографировать или на плёнку снять. В стае сейчас тридцать восемь особей, включая кутят; у волков три логова: одно постоянное, зимнее, другие временные, сезонные. Охотиться бригадами уходят за тридцать–сорок километров от Жабьего подальше.
Товарищ Смольный сразу углядел в Анне-русалке классового некогда врага — дворянку. Девушка склонна к тихим созерцательным занятиям — и всё. Окончательно уходящий дворянский тип: то внезапно кровь пойдёт из носа, то побледнеет, как бумага, и вообще всё в ней не то! Мороки с такой не оберёшься, а как работник — никакой. Ну не считать же рисованье акварелью за работу!
Как в ту пору инструктор по сельскому хозяйству, товарищ Смольный страшно про себя негодовал: в районе уборка на носу, а стажёр прокуратуры любезничает с московскою девицей! Ещё и зачем-то просит показать, где и как она пишет натуру. «На берегу озера пишу, у дороги на лесопилку, идёмте, покажу!»
Вышли на берег озера. Большие стрекозы в изрядном числе над озером и над головами со свистом и хрустом крыльев летали, друг с другом не сшибаяся едва. На берегу для художницы оборудован навес из досок, большие — из местной столярной мастерской — осиновые некрашеные столы, на них аккуратно разложены приспособления для рисованья. «А сейчас над чем работаете?», — интересуется Кутя-прокурор, во все глаза уставившись на Анну. Товарищ Смольный опять взвился про себя: «В районе, возможно, труп, а следак кокетничает на работе!»
Анна от такого внимания следователя прокуратуры немножечко порозовела даже. Она, ни капли не смущаясь, стояла совсем близко к Куте, смотрела на него снизу вверх, улыбалась и, как казалось Смольному, молола сущий вздор. Мол, в Москве наслушалась от дяди о Жабьем болоте и несыти Ночной, о самой большой в СССР и суровой волчьей стае, о Русалочьем озере с чистейшею водой, поющим камышом и розовым туманом — и до страсти захотелось ей написать русалку, стрекоз и розовый туман. Она верит в существование русалок! Сидела на берегу, сторожила, а пока русалка не являлась, рисовала камыш, траву, цветы, ягоды, всяких насекомых, лягушек и ужей. С несвойственной тоненьким блондинкам самоиронией рассказала: одна особа из клана Ротшильдов рисовала блох и издала научную монографию «Блохи Англии», а она, как «наш ответ Чемберлену», задумала нарисовать и издать красочный каталог «Стрекозы СССР».
Товарищ Смольный досадовал на Кутю-прокурора: тратит время на опрос глупенькой девицы! Или в нём тетерев-секач затоковал?! Тогда отозвал стажёра в сторонку и, как наставник, попробовал внушение сделать.
— Нужно расположить свидетельницу к себе! — отрезал Кутя-прокурор. — У художников острый выборочный взгляд на людей и предметы: Анна, если даже мельком видела фигуранта дела, должна запомнить внешние детали. Дьявол преступности — в деталях!
И стажёр обратился к девушке по существу: два дня тому назад видела ли она в посёлке постороннего мужчину?
— Увидь русалку, я бы запомнила, — немножко даже удивившись на вопрос, ответила девушка, и улыбнулась. — Или красивое «голубое коромысло».
— «Голубое коромысло?..» — как эхо отозвался Кутя-прокурор, пытаясь постичь сказанного смысл.
Девушка охотно прояснила: самая красивая и крупная местная стрекоза — голубое коромысло, Aeshna juncea. Из большого, в четверть стола, альбома Анна вытянула лист с рисунком. Смольный тоже подсунулся «на посмотреть» — и оторопел. Большая с прозрачными крыльями стрекоза с расправленными крыльями в воздухе будто висела. Её длинное брюшко и спинка были в дымчато-голубом окрасе, а из глубины тысяч фасеток больших сферических глаз струились разноцветные лучи. Анна поиграла листом, наклоняя его относительно солнечного света, и сияние, исходящее из глаз голубого коромысла, переливаясь, оживило рисунок стрекозы.
— Сейчас рисую живых стрекоз, — с нескрываемой авторской гордостью пропела девушка. — У мёртвой стрекозы глаза «тухнут». В художественном рисовании насекомых самое трудное дело — передать цвет глаз живой стрекозы.
— Трудное?.. — с нарочитым сомнение брякнул Смольный.
— Самое трудное в мире, — ответила Анна и улыбнулась Куте-прокурору.
— Вы сейчас делаете самое трудное дело в мире?! — отозвался тот.
— Да! И у меня скоро получится, на бумаге уже получилось. Теперь хочу попробовать писать французской акварелью на итальянском пергаменте, папа обещал достать в Европе.
— А кто у нас папа? — насторожился товарищ Смольный.
— Я точно не знаю, ответственный работник… в ЦК КПСС.
Товарищ Смольный напрягся, Кутя-прокурор нахмурился и губы сжал.
— А Скукожильский райком партии известить не потрудились, — попытался, наконец, изобразить гусара Васята Смольный. — Мы бы организовали встречу, экскурсии…
— От экскурсии на Жабье болото я бы не отказалась, — оживилась Анна.
— Сделаем! — отрапортовал товарищ Смольный. — Слово коммуниста!
Он опять взял под локоть Кутю-прокурора, отвёл в сторонку и зашептал:
— А может, пока не поздно, ну её… эту русалку. Номенклатурная семья, бабочек рисует, у самой полкило золота на шее — и это в рабочий день, в Потёмках! Какой она свидетель…
— Она свидетель, чую я! Папа и золото здесь не важны! — Кутя-прокурор вернулся к девушке и показал ей фотографию. — Этот человек пропал, возможно, утонул на Жабьем — в нём тонут каждый год, а, возможно, убит злодеями. В светлое время суток он мог пройти по дороге на лесопилку, или проехать туда на бортовой машине, потом мог вернуться пешком или на машине, гружённой досками и кругляком.
— Это только предположение! — ввернул товарищ Смольный. — Зачем пугать нашу гостью?
Кутя-прокурор описал фигуранта дела и начал опрос под запись. Анна стала серьёзной и ответила сразу. Я была на берегу, рисовала камыш. Видела: в направлении лесопилки проехал пустой бортовой ЗИЛ с двумя мужчинами в кабине. Вслед за ним, ещё пыль не улеглась, проехал мотоцикл с коляской, в мотоцикле тоже двое мужчин — один вёл, другой сидел в коляске. Люди в мотоцикле одеты не по погоде, закрыто, в капюшонах, с опущенными лицами. Но почему-то мотоцикл они закрыли зелёным выцветшим брезентом, возможно, чтобы металл коляски, бензобака и крыльев не нагревались на солнце. На кочке мотоцикл подпрыгнул, брезент отвернулся, и в солнечном луче коляска блеснула лазоревым цветом, почти как голубое коромысло. «Лазоревый — мой любимый цвет, не спутаю ни с каким!» Обратно машина проехала минут через пятнадцать, в ней сидел только водитель, пассажира не было, досок в кузове — тоже. Мотоцикла Анна больше не видела.
— Когда машина проезжала на лесопилку, где было солнце?
Анна, вспоминая, в одну руку взяла рисунок голубого коромысла, в другую — кисть, и, закрыв глаза, поводил ею в воздухе, будто рисуя, и сразу, без сомнений, указала кистью место на небе.
— Двадцать пять минут одиннадцатого, — сказал Кутя-прокурор. — Со слов жены, на нанятой машине пропавший выехал из города в восемь тридцать утра, в Потёмки как раз должен был приехать за два часа…
Кутя-прокурор по рации немедленно дал задание милиции: найти все голубые мотоциклы в районе и по соседству и сообщить ему имена владельцев и адреса их прописки. Он сдержанно поблагодарил Анну и стал прощаться, как девушка напомнила про экскурсию на Жабье.
— Аспиранты, наверное, ухаживаю за вами… — со смущением промямлил Кутя-прокурор в ответ.
— Подозреваю, скорее через меня ухаживают за дядей. Хотя… не маленькая — на днях стукнет восемнадцать — можно поухаживать и за мной… — Она с вызовом посмотрела на стажёра. — Обещали подарить лодку, сами мастерят её в столярке. Попробую рисовать с воды.
— Не пристают?
— У девушки есть способ отделаться от приставучего кавалера. Я научилась у самки голубого коромысла, как отделаться от самца.
— Девушка не стрекоза.
— Бывает и попрыгунья-стрекоза, помните: «лето красное пропела»… Когда самку голубого коромысла в полёте преследует назойливый самец, она выключает крылья, падает наземь и бездвижно лежит. Стрекозы реагируют только на движущуюся цель, так устроены фасетчатые глаза, неподвижную подругу на земле самец не «видит» и улетает прочь. Девушка тоже может окаменеть, смотреть насквозь, сказаться больной… уловок сотни. Показать?..
— В другой раз, мы спешим. Я ещё к вам приеду…
— На день рождения, приглашаю, — улыбнулась Анна. — С обещанным подарком — экскурсией по Жабьему болоту…
На лесопилку ни машина, ни мотоцикл не приезжали. Значит, фигурант дела пропал на участке дороги от посёлка до лесопилки — это метров шестьсот. Где-то посерёдке этого пути, по примятой траве нашли место, где грузовик развернулся. Неподалёку обнаружили боковую ненаезженную дорогу в сторону болота: на легковой по ней не проедешь, а на мотоцикле с коляской — вполне. В тот же день задержали владельца голубого мотоцикла и его сообщников. Версия Кути-прокурора подтвердилась от и до. Преступники узнали: потерпевший снял в сберкассе кругленькую сумму и намеревается купить пиломатериалы и дома сруб. Лазоревый приметный мотоцикл задрапировали и в самом диком месте между Гнилым и Потёмками съехались с грузовиком, коим управлял сообщник. Убили, ограбили, тело на мотоцикле вывезли на Жабье. По свежим следам тело убитого нашли…
Васята Смольный торжествовал: как Кутя-прокурор, «его человек», через наивную девочку-москвичку за двое суток раскрыл убийство! Местным следакам оно представлялось «висяком». Инструктор принялся уговаривать Кутю по окончании университета распределиться в Скукожильскую прокуратуру. Нет, лучше «мы тебе дадим направление, будешь учиться от МВД или прокуратуры нашего района», стипендию будем платить, подъёмные хорошие, жильё… А для обеспечения карьерного роста рекомендацию в партию дать обещал.
Через несколько дней товарищ Смольный Куте зачем-то позвонил. В прокуратуре ответили: стажёр сейчас в морге городской больницы — фиксирует человеческие останки. «А конкретно?» — «Двух мумий откопал в торфе на Жабьем». Товарищу Смольному стало неуютно. В районе Жабьего чуднáя дочка ответственного работника ЦК КПСС с золотой русалкой на груди рисует цветочки и стрекоз, а «его стажёр» выкапывает трупы!
В тот год май, июнь, июль оказались на редкость для Скукожильска сухими. Уровень воды на Жабьем упал, местами обнажился торф, начали падать деревья, и на вывороченных корнях один местный собиратель ягод наткнулся на уходящую в воду старую пеньковую веревку, из любопытства принялся тянуть и, намучавшись, выволок из грязи рыжеволосую мумию — женский пол. Правильный советский гражданин о находке немедля сообщил «куда следует», и тотчас из райцентра явился следователь — Кутя-прокурор. Он в один день сумел организовать с совхозной фермы колёсный тракторёнок с ковшом и бортовой ГАЗон, шанцевый инструмент, лебёдку и группу «добровольцев» из Скукожильской тюрьмы, решивших заработать очки для УДО и развлечься на воле, поменяв кружку чифиря на пригоршню неспелых ещё болотных ягод. Начали ил и торф копать и в тот же день отрыли вторую мумию. Явно это было место массового утопления людей, ничем не уступающего по значению для большой науки стоянке палеолитического человека в Матерках. Поскольку оба тела имели очевидные признаки убийства, Кутя-прокурор «на время проведения следствия» объявил их подведомственными прокуратуре.
Товарищ Смольный кинулся в больницу. Спустился в морг. В коридоре, маневрируя между пустыми каталками, инструктора настиг дезинфекции и хлороформа резкий дух. Через приоткрытую дверь в секционной комнате нашёл в халатах и фартуках две фигуры — большую и малую совсем; они склонились над секционным столом и в чёрном теле там копались. Рядом с малой фигурой стоял мольберт, столик-каталка с красками, кисточками и банками с водой. Вся эта акварель страшно не вязалась со зловонием и кафельным щербатым полом…
— В том месте могут лежать десятки тел людей, а, возможно, и животных, — сказал Кутя-прокурор. — ДНК в мумиях, жаль, не сохраняется. Но хотя бы установим половой и возрастной состав, от чего умерли, зарисуем. Видишь, у этого горло перерезано. А первую мумию, с верёвкой на шее и с камнями на ногах, скорее всего, утопили как ведьму… Хорошо у тебя вышли шерстяное платье, и причёска, бусы!
— Причёска у ведьмы отлично сохранилась, — отозвалась Анна. — Волосы, наверное, уложены с помощью смеси растительного масла и смолы.
— Точно! Теперь сможем выполнить реконструкцию исторического костюма, узнаем: к чьей культуре принадлежал человек. По химическому анализу волос установим, какую пищу в последние годы жизни принимали эти люди, по зубам — в каком возрасте умерли. Ведь интересно?
— Ещё как! Кутя, мы с тобой сейчас патологоанатомы или судмедэксперты?
— Скорее эксперты… по брошенным телам.
— Эксперты незаконные?
— Законные! Эти тела ничьи, как брошенные в море корабли. Им, может быть, две тысячи лет. Я раскопки только сегодня начал, повезёт — мы и мамонта отроем…
— И мумию голубого коромысла?
— Она слишком хрупкая, Ань.
— У стрекоз хитиновый покров, а хитин не гниёт. Если осторожненько копать…
— Теоретически, можем и стрекозу откопать. Нужно целенаправленно искать.
— Всякий утопленник на Жабьем превращается в мумию? Куть, расскажи!
— Да, через тысячу лет. В ржавых трясинках анаэробная среда, в торф не проникает кислород. Торфяные болота — идеальная среда для сохранности мумий. Гумусовая кислота — это продукт разложения мха сфагнума — способствует естественному бальзамированию тел. Кислóты убивают гнилостных бактерий и дубят мягкие ткани, плюс холодный климат — и получи мумификацию тел. Признаки мумификации патологоанатом нашёл уже в том убитом и утопленном, которого мы с тобой нашли.
— Три тела достали из Жабьего — и все убиты!
— Римский историк Тацит о древних германцах писал: «Предателей и перебежчиков они вешают на деревьях, трусов и оплошавших в бою, а также обесчестивших своё тело — топят в грязи и болоте, забрасывая поверх валежником». У нас тоже, может быть, в болотах хоронили людей, кто нарушил общественные законы или табу. Ещё болото издревле считалось переходным местом из мира живого в мир загробный, потому учёные не без оснований предполагают: болота служили местом жертвоприношений, убитых людей топили, чтобы они не могли восстать из мёртвых и мстить живым.
— Некрасиво, страшно…
— Да уж не голубое коромысло на солнышке рисовать, я тебя предупреждал.
— Я сама вызвалась. Ведьму же нарисовала… Какой у неё роскошный медно-красный волос! При искусственном свете так трудно краски подбирать! А если утонет русалка, она становится такой… чёрной, страшной?
— Русалок не бывает.
— Аспиранты зовут меня русалкой. Ой, опять тошнит… Ты обещал подарок — экскурсию на Жабье. Хочу ржавые трясинки акрилом поярче написать — на розовом закате.
— На днях пойдём, только сапоги достану. Про трясинки и закат даже не заикайся — слишком опасно. Сначала в ясный день сходим на разведку, на край болота, часа на три-четыре… И, Ань, никаких «шаг вправо, шаг влево»: идти след в след за мной — топь опасна как пожар!..
Я, рассказывал нам с Бэлой Васята Смольный, окаменел точно их мумия и не знал, что делать. Кутя-прокурор формально мне не подчинялся. Пока я размышлял, в морг спустилась Малуша, молодая врачиха, заведующая хирургическим отделением в горбольнице. Она молча вытолкала меня наверх, завела в ординаторскую — «отдышаться», предложила нюхнуть спиртачку, а лучше пятьдесят миллилитров принять вовнутрь. Откупорила из шкафчика мерную колбу, налила в мензурку:
— Давайте залпом! Морг — он обычно для мёртвых, но один раз пусть будет для влюблённых. Я почти так же свою семью начинала: молодой инженер-строитель с опоры возводимого моста упал в жидкий гудрон, я его, чёрненького, собрала, на ноги поставила и через три месяца вышла замуж.
— Вы хотите сказать, они…
— Очков не надо. Сегодня мумии — скорее не научное исследование, каких отродясь не проводилось в Непроймёнской стороне, а повод встретиться наедине, сойтись. Когда мумии в морг только привезли, они друг к другу обращались на вы, а когда между первым и вторым телами вышли в парк продышаться — уже на ты. Работа в морге сближает сразу: патологоанатомам неизвестно обращение на вы.
— Она несовершеннолетняя! Её папа работает в ЦК КПСС!
— В секционной, среди покойников и мумий, какая разница влюблённым, где работает папа? Через такой запах непривычные люди могут пройти только ради самого святого. Я слышала в городе, как ваш стажёр за пару суток раскрыл резонансное убийство, зауважала, и когда он позвонил, не могла отказать. Наш патологоанатом помог им с обследованием первого тела, затем умчался в Непроймёнск — искать закрепляющие средства. Нужно зарисовать немедленно, потому что мумии на воздухе сразу начали гнить, а у нас нет нужных закрепляющих средств, да и в Непроймёнске навряд ли есть, только формалин…
Тут в ординаторскую влетели аспиранты и дядя Анны. Вернувшись с Жабьего, они узнали, что девушка уехала на милицейской машине, захватила с собой мольберт, бумагу, краски. Бросились звонить, искать…
Дядя сразу накатил:
— Что у вас в районе творится?!
— Ваша племянница, как выдающийся художник-флорист, добровольно помогает районной прокуратуре в одном необычном, важном для советской науки, расследовании… — нашёлся товарищ Смольный. — Райком напишет благодарность! Своему брату только не рассказывайте…
— Само собой! Если брат узнает, он и меня вместе с вами в порошок сотрёт!
— Договорились! Ничего не было, благодарности не будет. Оставайтесь здесь! Я сейчас же приведу Анну — в целости и сохранности, слово коммуниста.
В секционную Смольный влетел с криком:
— Конец свидания! За вами, девушка, приехал дядя! Ни слова ему про рисунки… этих…
— «Болотных людей» называется, — сказал Кутя-прокурор, отступив от стола.
— Блестит как из железа! — воскликнул Смольный, взглянув на тело между расступившейся парочкой. — А что за пролом в голове?
— Вероятно, от смертельного удара боевого топора. Загадка: к чему тогда было резать горло от уха до уха?..
— Убийство?
— Несомненно.
— Зачем расследовать убийство, совершённое тысячу, две тысячи лет тому назад?
— Интересно! — вскрикнули одновременно Кутя с Анной.
— Это наука! — упрямо добавила девушка.
— Космос — это наука! — с азартом возразил товарищ Смольный. — Придумали в районе болотную науку!
— От космоса до болота один шаг, — спокойно возразил Кутя-прокурор. — В стороне от наших раскопок я обнаружил и сфотографировал странные ямы. Очень похоже на раскопки с применением серьёзной техники. Но дорог и фашинников рядом нет — откуда техника могла прийти? Остаётся: кто-то спустился на Жабье с неба и раскапывал место вдоль той «тропы самоубийц»…
— Всё! Лекцию о болотных людях и пришельцах прочтёте перед хозяйственно-партийным активом района: пусть руководители и парторги расширяют кругозор. А не такой уж ваш болотный человек и страшный! Вот после пожара… — Говоря, товарищ Смольный почти насильно стянул с Анны большой светло-зелёный резиновый фартук, перчатки и халат, сметал в сумку краски и кисточки, листы чистой бумаги, но стопку готовых рисунков и начатый рисунок второго тела не тронул. Наконец сгрёб в охапку мольберт и подтолкнул им девушку к двери. — Рисунки посторонним не показывать! Под вашу, стажёр, ответственность! Анна, между прочим, несовершеннолетняя: по закону, у родителей разрешение спрашивать надо. Чему вас в институтах учат!
— Я никому не расскажу, клянусь, — обернулась в дверях Анна и со счастливою слезинкой улыбнулась Куте. — У нас теперь есть тайна…
«Малуша права: в районе начали убирать ранние овощи, а они влюбились!» Как только сей факт угнездился в товарище Смольном, он стал соображать, как от греха уберечь будущего прокурора района, каким он уже видел Кутю. И преступников, как мух, ловит, и в передовых науках волочёт. И готовый лектор! Утрём сопливые носы соседним районам! Проклятые рисунки!..
Увы, возможно, именно те рисунки сыграли роковую роль. Когда Анна тонула, перед нею могла возникнуть картина задушенной рыжеволосой ведьмы с приоткрытыми антрацитными глазами, вот впечатлительная девушка, живущая образами красоты голубого коромысла, со страха превратиться из русалки в ведьму и сошла с ума и вскоре тихо умерла…
На следующий день после несчастной экскурсии на Жабье прилетели родители Анны со «своими» врачами и бригадой следователей Генпрокуратуры СССР. Кутю сразу арестовали и отвезли в Непроймёнск, а Анну отправили в Москву.
Русалка лежала в больнице, никого не узнавала, рисовала странные вещи: стрекоз с глазами вместо крыльев, русалок похожих на болотных людей и на страшную лодку, сколоченную аспирантами в подарок ей на день рожденья. Девушка забыла про лазоревые краски. Новые рисунки — сплошь чёрная мазня, похожая на взбаламученную воду в трясинках ржавых, только с медно-оранжевым пятном. Дядя выгнал горе-плотников из аспирантуры, когда врач-психиатр в экспертном заключении написал: уродливой лодки образ мог наложиться на психику больной. Эксперт ещё не знал про болотных мумий…
На свидании в следственном изоляторе товарищ Смольный рассказал Куте об отношении к последнему отца Анны. «Он считает тебя лимитчиком». Будто ты ловил глупышку из влиятельной столичной семьи, дабы перебраться в Москву под крылья тестя. Обычно приезжие девицы охотятся на столичных женихов, а ты будто бы «ловил» столичную на романтике Жабьего болота. Прописка — самая распространенная из нелюбовных причин заключения в столице брака. Мол, женится, потом разведётся, а уже москвич. Два формальных обстоятельства должны помочь тебе избежать тюрьмы. Первое, на болото вы пошли на следующий день после дня совершеннолетия Анны, когда она вышла из-под родительской опеки, перестала быть «ребёнком». Второе, как показала судмедэкспертиза, русалка, на твоё счастье, оказалась девушкой невинной, а то могли и соблазнение несовершеннолетней навесить на тебя.
Уже после смерти Анны, на суде Кутя слабо защищался, будто хотел сесть и пострадать. На суде он рассказал… Я попросил у сослуживцев две пары болотных сапог, москитные сетки — и так пошли. Миновали лес, выбрались к большим просветам и — кое-где — открытой воде, остановились здесь. Зашли на Жабье километра на полтора, не дальше, а до ржавых трясинок — четыре–пять. Нашли место с хорошим видом. Я нарубил веток, стволиков — и так укрепил кочку. Анна на ней расположилась. Через москитную сетку трудно рисовать. Она разнервничалась. Пока набрасывала первый эскиз, ей, наверное, показалось, что более удачный вид будет с другого места — метрах в десяти от оборудованной кочки. Я в это время на ближнем сухом островке организовывал кострище, рубил дрова. Анна собрала манатки и, ни слова не сказав, не сняв москитной сетки, тронулась к облюбованному месту. Уже через три-четыре шага вешка, наверное, воткнулась в ил, застряла, и не хотела выдёргиваться обратно. Анна отложила вещи на мох и стала дёргать вешку изо всех сил. Когда, вдруг, выдернула резко, сама не устояла и опрокинулась на спину, стала барахтаться, цепляться за мох, вешку отнесло поднятой волной, москитная сетка мешала, ноги зацепись за корни и коряги, увязли. Девушка стала захлёбываться. Я уже шёл к ней, кричал: не дёргайся, лежи на спине. До неё всего-то было шагов двадцать, но с вешкой по болоту с открытой водой — это совсем не скоро… Высвобождая ноги Анны, нырял, наглотался тины, вытолкал Анну, сам завяз, но хорошо вешку не выпустил из руки, смог выползти на кочку. Привёл девушку на базу в Потёмки, всю в грязи. Вызвали из городской больницы скорую — приехали, забрали…
Товарищ Смольный выступал в суде как свидетель со стороны обвиняемого. По привычке дал Куте-прокурору положительную характеристику от имени райкома.
По ходу следствия выяснилось. Родители приветствовали и развивали художественную одарённость девочки, а их друзья из столичной богемы нашли в ней задатки художницы-флористки. Эти надежды оправдались: девушка вырисовывала тщательно каждый парашютик в шапке одуванчика, каждую фасетку в стрекозы глазах. Шапка одуванчика на изящно изогнутом стебле и сияние живых глаз голубого коромысла кроме их ценной натуралистической трактовки — из-за своей хрупкости — смотрелись с картин ещё и как аллегория бренности бытия. «Ваша девочка ощущает бренность бытия!» — восхищалась богема, а во след им и родители Анны. Они хотели выдать её за гражданина Франции: выйдя замуж за гражданина СССР, невеста, по условиям завещания, лишалась во Франции крупного наследства, где жила её дворянская родня. Как запасной вариант папа мог устроить дочку в министерство культуры СССР, если захочет вдруг работать, а лучше — замуж за сына своего друга из ЦК КПСС.
Обвинитель исходил из позиций родителей Анны. Мол, работая над раскрытием нашумевшего в Непроймёнской стороне убийства, Кутя познакомился с Анной, разузнал всё об её отце и мечте — рисовать болотные пейзажи на легендарном Жабьем. Тогда, презрев запрет дяди, он воспользовался поводом — днём рождения — и преподнёс «подарок». Преступник — не мальчик, двадцати трёх лет, обязан был понимать, что девушка, мечтающая рисовать Ночную и русалку, что называется «своеобразная», наивная, за нею глаз да глаз, а он затащил её в ржавые трясинки, куда только браконьеры из Блядуново ходят. Подсудимый повёл девушку в самую топь, не захватив даже противокомариной мази! Обвинение настаивало: Анна обессилила от перехода, а из-за москитной сетки плохо видела, поэтому оступилась и начала тонуть. Кутя, по всему, — «охотник за невестами», карьерист, в результате случайного раскрытия убийства возомнивший Шерлока Холмса о себе. Подсудимый намеревался выступить спасителем девушки. Специально устроил её на кочке с плохим видом на болото, поблизости с удобной для обзора кочкой, а сам отошёл в сторонку, якобы запалить костёр. Зачем костёр солнечным днём в середине июля, если пришли, как утверждает подсудимый, на часок-другой? Так он спровоцировал неопытную слабосильную девочку — и та пошла одна. Подсудимый упустил, что впечатлительная девочка, ни разу не бывавшая на болотах, когда начала захлёбываться жижей, могла от страха поседеть и сойти с ума. Специально долго шёл на помощь и вытаскивал, дабы Анна успела нахлебаться и героя оценить.
Скукожильский районный суд — при Советах так бывало! — восстал против домыслов партийной номенклатуры, и Кутю-прокурора оправдал. Апелляцию, не без поддержки Бобоши Тройкина, непроймёнцы в облсуде тоже отклонили, и тогда столичный папа, боясь разрастания скандала, отступил.
После смерти девушки родители издали акварели как альбом «Чудесные превращения голубого коромысла». Оказалось, хищных личинок коромысла для Анны доставали со дна Русалочьего озера горе-аспиранты. Она разводила личинок в садках, кормила головастиками и рисовала после каждой линьки.
Через несколько лет после смерти Анны Кутя-прокурор получил из рук безмолвного курьера большой пакет. В нём оказался акварельный рисунок летящего над озёрным камышом голубого коромысла с подписью на обороте: «Сказка на Русалочьем озере в Потёмках. Куте от Анны».
Товарищ Смольный изъял рисунки мумий и спрятал у своей мамы, а когда всё улеглось, вернул их Куте-прокурору.
— Вот фотографии с тех рисунков! Кутя-прокурор не выдал, что это я первый обещал Анне экскурсию на Жабье, сам он не хотел вести. Иначе, не сносить мне головы…
Смольный захватил фотографии рисунков с собою, молодец. Я не писец, но живопись не путаю с мазнёй! Смотрю и сразу отмечаю: в рисунках Анны отразилась личностная манера изображения и вообще: необыкновенная экспрессия, напряжённость линий разрезов, форм, переливы красок — всё!
Бэлу заворожил рассказ. Она не ожидала от русских такой страсти. Вот её мужчина! Рассмотрев пристально рисунки мумий, сказала тихо:
— Это нарисовала москвичка… несовершеннолетняя маленькая блондинка? Да, она его любила…
Мемуар № 6
Новелла о Масяпе — пшеничной косе
Тогда отсылаю Травинку в новый корпус, подальше от себя, с заданием веник раздобыть, якобы «заметать следы и вообще». А сам влезаю в пустую школу через разбитое окно, пробираюсь впотьмах по коридору. Когда-то здесь витал сборный дух гниющего тряпья, старой обуви и пота. Это я ещё запах хлорки опускаю! Сей интернатский дух пропитал все помещения до одного, а у воспитуемых — одежду, волосы и кожу.
На склад дарильщиков зияет выбитая дверь. Вступаю: на полу — от корейских телевизоров пустые картонные коробки: макулатуру, знать, не собирают уж давно. Мусор и тряпьё, пыль, запах облетевшей штукатурки…
Заныло сердце, в памяти всплыло: сюда когда-то привёл я прятаться Масяпу…
Масяпа! Героиня в мой ненаписанный роман о пацане, влюбившемся во взрослую девицу.
Отвлечёмся… С пелёнок я любил слушать разговоры взрослых. Контрразведчик во мне сызмальства проснулся, знать. Детдомовские, они как воры в законе ― по части родни для противника неуязвимы. С приметной квадратной головой разведчиком мне было не стать, а в контрразведку взяли, молодцы.
Поздней весной того же года, когда банда Прыща по неосторожности сделала мою голову квадратной, как-то утром после завтрака я под дверью директорши инкубатора стоял: ждал, когда позовёт и за что-то по обыкновенью всыплет. Из-под обитой чёрным дерматином двери тянуло запахом какао и эклеров: они готовились ежедневно спецом для директрисы, её приближённых, неожиданно нагрянувших благодетелей и всякого рода незваных дорогих гостей. В нашем классе был «штатный стукач». Но вот Прыщ со товарищи его хорошенечко избили и тот объявил начальству: больше докладывать не может — обещали в мешке с двумя кирпичами утопить в реке. Стукачок и нам объявил о своей отставке. Я в то время был старостой класса, а наша воспитательница вышла замуж за военного, и в один миг умотала на место службы мужа. И прокатился слух: в интернат приходит по распределению выпускница, сегодня должна прибыть. Я прозорливал: директрисса вызвала меня с целью дать поручение следить за новенькой, дабы старшие пацаны не обижали, и, само собой, докладывать про обиды ей. Я пришёл с твёрдым убеждением заявить: отказываюсь от слежки, не стукач, пацанские понятия имею!
Стою, подпираю стенку, и вдруг в сумрак коридора заглянуло солнышко под цокот каблуков. Явилось лилейное светило! На улицах, конечно, я видел женщин и девушек в платьях и на каблуках, но встречал их в городе, не в интернате. Она небольшого сама по себе росточку, зато беленькая, как светится вся изнутри, с пшеничной ниже пояса косой — и, главное, без разрешения начальства каблуком стучит! У нас все женщины — воспитки и училки — ходили строго в брюках и в обуви без каблуков, а длинногривые заматывали волосы в платки — в общем, вид имели боевой, выказывали готовность дать старшим баторам физический отпор.
Солнышко подошло и, вдруг, улыбнулось мне, блеснув ровными как на подбор зубами. От неожиданности я спиною вжался в крашеную тёмно-синюю стену. Вот мамочка, какую я хотел бы защищать! Никто и никогда мне так прямо в лицо не улыбался. Мне казалось: сейчас должно что-то страшное произойти, как расплата за первую в жизни только для меня улыбку.
Моя подзащитная постучала и, получив ответ басом: «Да!», распахнула дверь.
— И ты, шкет, зайди! — крикнула директрисса, завидев меня в дверном проёме.
Тучная гром-баба по кличке Крошка Цыц, в недавнем прошлом инспектор по работе с несовершеннолетними в Сломиголовском горотделе МВД, сидела за столом и уплетала завтрак — его прикрытым от любопытных глаз большой накрахмаленной салфеткой ей ежедневно, исключая выходные, с инкубаторской кухни подавали на серебряном подносе. Все знали, даже в ГорОНО, как сладко Крошка Цыц питается от интернатского стола, но, учитывая её ментовское прошлое, звание майора и награды, молчали от и до. Она уже переходила на десерт, и за столовым серебром выглядела очень величаво.
Пока они здоровались и представлялись, я стоял у двери и разглядывал картину: довольную завтраком морду Крошки Цыц и тугую косу новой воспиталки на спине. Мои пацанские понятия супротив стукачества поколебала, вдруг, прозорливая с детства мысль: Крошка Цыц имела виды на физрука, а тот, шестипудовый котяра, немедля откроет виды на новую малышку, кою взял подмышку и в тренерскую каморку умыкнул. Она — приезжая, родных-знакомых в городе нет, снимет где-то комнату или квартиру, по всему — лакомый кусок для избалованного блудливого кота, каким был неутомимый наш физрук. Он пользовал, наверное, всех мало-мальски симпатичных сотрудниц интерната и старшеклассниц с развитым передком не по годам. Девчонки гордились такой связью, ревновали и многажды бились меж собой на ножницах, заточках, кулаках… Не раз по чьим-то анонимкам являлись комиссии на предмет изобличения «облика морале» физрука, только состояли они исключительно из нехилых и активных дам, и те, отгуляв за счёт интерната, а кому больше повезло — оказавшись ещё и обласканными физруком, писали в отчёте: «Сигнал не подтвердился», и всё возвращалось на круги своя. По рассказам старших пацанов, после такой комиссии телевизоров в «дарственной кладовке» становилось меньше ровно комиссионерок на число.
Крошка Цыц предложила новенькой пирожное — из оставшихся двух одно, из серебряного кофейника налила ей со сливками какао. Я пялился на искусно плетёную косу, как она висела сверху вертикально, а внизу по рельефу попы делала изгиб.
Вводную речь Крошки Цыц я не помню, но в мемуаре передам её точный смысл. Биологических сирот, кто потерял родителей в автокатастрофе, сейчас в стране меньше, чем уссурийских тигров: над такими детьми родственники оформляют опекунство сразу. Наш контингент — социальные сироты, чьи папы-мамы лишены родительских прав или сидят в тюрьме, в психушке или пребывают на лечении от алкоголизма, наркоты. Инкубаторские детки многого навидались в прошлом, и уголовных навыков у них несть числа. Забудь всё, чему тебя пичкали в педухе: их в принципе перевоспитать нельзя. «Но Макаренко же перевоспитал». Нет! В детских колониях, коммунах, он создал систему самоуправления — всё! Не считая исключений, правило Ломброзо о врождённых преступных наклонностях торжествует в СССР. Две трети выпускников интерната окажутся за решёткой, остальные сопьются или подсядут на иглу. Эстафета криминала передаётся из поколенья в поколенье. Статистику в государстве намеренно не ведут: она страшна, противоречит советской педагогике и коммунистической пропаганде. Но я служила пятнадцать лет в ментовке, знаю положение дел. Перевоспитать этих сволочей в принципе нельзя, поэтому единственная осуществимая воспитателя задача — сдержать их природную и усугублённую в семье предрасположенность к совершению преступлений. Для этого надо быть циничной и жестокой, без косы и каблуков. Иначе, девочка, в инкубаторе не выжить.
— …Они все бессовестные воры, ищут выгоду во всём, врут, подставляют, а доброту воспринимают как глупость или слабость, — закончила вводную Крошка Цыц и тут вспомнила про меня. — Этот шкет — староста четвёртого «А» класса, твой первый помощник. Зовут… как тебя, опять забыла! А-а-а, Фима! На квадрат головы не обращай внимание. Фима как мой геройский дед, «ворошиловский стрелок»: лампочку на уличном фонаре щебёнкой сбивает с одного броска. Единственный пацан с непотухшими глазами. Скоро отдам его в суворовское училище от греха подальше. Самый умный пацан в интернате, начитанный, со склада макулатуры перетаскал всю классику себе под матрац, со вкусом к русской литературе шкет: на плакс-«шестидесятников» не ведётся. На днях выиграл городской конкурс на… ну неважно, получил грамоту и в подарок — велосипед. Он у нас за образец: маршировка, речёвки, команда, барабан, да и на вид — боец! Смотрит так, что не поймёшь, куда сейчас врежет — в нос или живот. Я бы с таким пошла в разведку! А тебе, девочка, на работу ходить в брюках и без всяких каблуков! Коса тоже… лишняя.
— Шрамы украшают настоящего мужчину… — с явным сочувствием произнесла банальность новая воспитка и, как требовали Макаренко заветы, собралась было погладить меня по квадрату головы, руку даже занесла, но не решилась.
«Мне не больно, гладь!», — хотелось крикнуть мне и квадрат подставить, но при Крошке Цыц не решился тоже.
Когда моё солнышко из кабинета скрылось, а я остался для получения конкретной установки на пригляд, звякнул телефон. Звонила кастелянша. Крошка Цыц дала ей задание переодеть новенькую «по штату», а на встречные любопытства отвечала так:
— Выпускница из Непроймёнской педухи, диплом с отличием… Мелкая совсем девочка — Масяпа. А вот косища у неё!.. Я бы и сама косу купила. Не-не, не продаст: она, похоже, «невеста»… Не-не, больше двух месяцев вряд ли протянет. Я даже трудовую книжку пока не буду заполнять…
Догнав Масяпу в коридоре, сначала я повёл её в столовку, где в сей час после баторов под звон посуды и запах подгоревшей гречки за отдельным столом завтракали воспиталки, а кухонные в белых халатах тётки, ничтоже сумняшеся, накладывали в баночки крестьянское маслице, сметану, заворачивали в салфетки голландский сыр, развесное печенье к чаю, и укладывали всю штатную наживу в объёмные сумки и пакеты, дабы растащить позже по домам.
Спёртый влажный воздух и неотмываемая жирная слизь на цементном полу оказались нежданны для Масяпы: она сразу полезла в сумочку за носовым платком и едва ни грохнулась на пол, когда поехала вперёд на каблуке левая нога. Я успел за талию поддержать легковесную Масяпу, и подвёл к столу.
— Это ты новенькая, выпускница? — обратилась старшая воспитка. Получив «Здравствуйте!» и кивок в ответ, крикнула в сторону кухни. — Эй, принесли быстро ещё порцию! — А, проследив за удивлённым взглядом Масяпы, наставительным тоном добавила уже лично ей: — У нас негласное разрешение от ГорОНО: все остатки продуктов от завтрака, обеда, ужина и от благодетелей халяву можно забирать домой. Зарплата воспитателя — сущие слёзы, а нагрузка вдвое больше, чем у учителей: в семь утра на подъём пришла, а домой вернулась в девять, после вечерних занятий. Завтра банки приноси — и тебе наложат…
Масяпа покраснела, а я, помнится, про себя вскипел: «Им-то наложат, а нам, баторам, дают крошечные кусочки масла, сыра, и по два печенья на нос, а не по четыре, как в прописано калькуляции с печатью — сам слышал в котельной от старших пацанов. Вот поступлю в суворовское училище, там для будущих здоровенных офицеров уж точно дают честные порции масла, печенья и всего!» Таков, недоевший читатель мой, был исходный мотив идти в суворовское училище, дабы советским офицером стать. Кто всю жизнь прожил в общагах, тот меня поймёт!
Когда я в свой класс вернулся, обступили пацаны: как новую воспитку звать? Я и сказал, как собственными ушами слышал: Масяпа! Такой мне и запомнилась навек. Масяпа — первый и последний человек, за коей я, прирождённый безродный десятилетний контрразведчик, следил с обмиранием сердца и готов был в любой миг квадратную голову сложить. В наш инкубатор явилась она, как я сегодня понимаю, с намерением сеять разумное, доброе, вечное, воплотить на практике Макаренко идеи и апробировать методики из новейших диссертаций, а то и самой наскрести материалов на степень кандидатуры душеведческих наук, то есть, стать учёной дамой, формально равной теперешнему мне. По фактуре же дня, увы, вышел на арену цирка не учёный из школы гладиаторов боец, а с дальнего стойбища наивная нанайская девчонка. Крошка Цыц оказалась права: и двух месяцев не продержалася Масяпа.
В тот же день, в коридоре спального корпуса, я увидел, как старший пацан сзади подкрался и задрал Масяпе юбку. Она машинально схватилась за подол, вырвалась, присев, и оглянулась. Пацаны со всех сторон обступили мою Масяпу, покрасневшую со стыда второй раз за утро.
— Вы что ли новая воспитка?
— Что надо тёлка: в юбочке, на каблуке. Товар не прячет!
— Мелковата, а попка даже очень!
— Мы вам, детка, засадим быстрее физрука!
— У нас с ним принципиальный спор по части новеньких воспиток.
— Вы только не ломайтесь, и всё будет ништяк.
— Шухер! Крошка Цыц!
— А ну закончили быковать! — с конца коридора заорала Крошка Цыц.
Пацаны заржали и вальяжно ушли, скабрезные шутки отпуская.
— Иди, переоденься! — приказывает Крошка Цыц пунцовой Масяпе, всё ещё держащейся за подол. — Иначе проходу не дадут. Ты мелкая: кастелянша легко подберёт из шефского барахла. Шкет! — подзывает меня. — Проводи на склад и помни наш уговор! Тебе новая воспитательница нравится? Красивая тётя?
— Да!
— Вот и служи ей! Ты же будущий военный! С суворовским училищем я договорилась.
— Военные служат не тёте, а родине и трудовому народу!
— Правильно, народу! А красивые тёти — лучшая часть народа. За кого же, как не за красивых тёть, кровь офицеру проливать! Согласен?
— Да! Я кровь проливать ни капли не боюсь!
Как именно служить Масяпе — директрисса не сказала. Я же не представлял себе службу родине и красивой тёте без самопожертвования с кровью.
Привожу на склад Масяпу. Здесь на длинных полках лежали стопками учебники, тетради, постельное бельё, теле-радиоаппаратура. На вешалках, как в магазине, висели курточки, пальто, платья, рубашки и другая одежонка. В отдельных местах покоились обувь и игрушки.
— Столько хорошей одежды, а дети, я видела, ходят в синих трусах до колена и в застиранных серых майках… — тихо говорит Масяпа кастелянше.
Та, презрев моё присутствие, берётся охотно объяснить:
— Баторы — поросята: дай хорошую вещь — сразу выпачкает или порвёт. В парадную одежду мы их одеваем только по праздникам или на выходах в город, на концерт, праздничную демонстрацию, в кинотеатр. Или когда комиссия из Непроймёнска приезжает. Или приходят шефы с химзавода. Шефы несут и несут, сама видишь, полок не хватает, вот и разбираем по домам. Совесть здесь не при чём: дети своё по нормам получают…
Пока говорила, подобрала Масяпе хорошие брючки, тонкий шерстяной свитерок и туфли без намёка на каблук. Масяпа машинально благодарит, принимает вещи и, едва не шатаясь, выходит со склада, я хвостом за ней.
— Странно, в интернате пацаны похожи на беспризорников времён Гражданской войны, — мне говорит Масяпа в коридоре. — Я на фотографиях видела: у них пиджачок или курточка застёгнуты только на нижнюю пуговицу, плечи наполовину высунуты, рубашка расстёгнута до пупа, брюки великоваты, мешковаты, едва ли не волочатся по земле. Вид расхристанный. А другие полностью застёгнуты, но те все с робким, испуганным взглядом. Как две касты. Объяснишь, служивый?
— Расхристанные, — охотно красивой тёте объясняю, — те «отрицалово», а застёгнутые — «опущенки» или скоро станут. По понятием, баторам не разрешается по-другому прикид носить…
Помню, весь тот первый день я понятия Масяпе объяснял, вводил в курс интернатских дел.
Наутро в нашу спальню старшая воспитка Масяпу приводит и учит выполнению команды на «Подъём!» Пинком распахивает дверь и в потолок орёт:
— Подъём, дрочилы! На стадион на зарядку марш! Физрук ждать не будет! Кто опоздает на построение, будет на котельной грузить шлак…
На мою подзащитную Масяпу положили глаз похотливые великовозрастные дебилы из числа якобы «подающих надежды» на поступление в институт, и потому оставленных в интернате после окончания восьмого класса, когда всех «безнадёжных» отправляли в «каблухи», то бишь ПТУ. У «подающих надежды» дармоедов была от администрации обязанность одна: помогать учителям и воспитателям держать дисциплину от и до. Нарушителей отправляли к дармоедам — и те «воспитывали» их за закрытыми дверьми. Мы, мелкие прасолы, считали и называли их фашистами и боялись как огня. Летом того года нескольким фашистам предстояло проститься с хлебным местом — и они пустились в беспредел. У фашистов в главарях ходил один прилизанный, напомаженный блондин — Ушан по кличке. Стиляга сломиголовского калибра. Сегодня я бы мог сказать, что Ушан был единственным гламурным парнем в интернате. С него против блондинов родилось во меня предубежденье: блондинок обожаю, блондинов же при случае гноблю. У него хищно торчали заострённые кверху уши, и сколько помню, мне всегда хотелось их укоротить. Ушан, как и все фашисты, был завзятым педофилом, часто напивался, отбирали деньги у городских школьников, обирали старушек и держал «общак». Его побаивался даже Прыщ. Котельной Ушан пренебрегал: у него имелась в городе съёмная квартира, там он насиловал девчонок и кутил.
Я привязался к Масяпе собачонкой. Она проводила игры, конкурсы рисунков, чтения стихов. Сама рисовала хорошо. В первые дни ей, наверное, казалось, что она, благодаря применению педагогических методик, добилась у воспитанников авторитета и вообще. За ней ходили по пятам и клянчили нарисовать розочку, кинжал, проткнутое стрелой сердечко… Дети, очаровательные в своей непосредственности, благодарили её конфеткой, безделушкой. Идиллия длилась не дольше двух недель: Крошка Цыц обнаружила на телах баторов наколки. Благодарные детки хором заявили: эскизы для наколок сработала Масяпа за вполне умеренную плату, а потому начальству строго наказывать художницу не след.
Мне хотелось ободрить Масяпу, но не находил нужных слов, боясь оказаться в её глазах мальчишкой без авторитета. Приносил ей с кладбища оставленные людьми на могилах свежие цветы, перевязав букет надранной на пустыре шелковистой травкой. Пытался написать стихи и посвятить — ума не показать хватило…
Физрук к Масяпе лез, но та легко отшила: в Непроймёнске у неё жених — спортсмен. Сработала, наверное, мужская солидарность. Он не насильник, отшила — значит, всё, других полно страдалиц по крепким мужикам. А вот за фашистами нужен был тщательный пригляд. Фашисты и Прыщ ни единой целки в интернате не оставляли «принципиально», с двенадцати лет все девочки многажды проходили через них. Травинка же сказала: её пользовали с одиннадцати лет, когда ещё девушкой не стала, — разврат в недогоняющей стране окреп.
Каждый день вечером я провожал Масяпу до ворот в ограде интерната, отгонял от неё «просителей» и вообще. Баторы, учуяв в Масяпе порядочность и доброту, давя на жалость, всё время клянчили чего-то у неё или подбивали выступать просителем перед начальством. Помню, девочка одна канючила насчёт импортной губной помады; другая просила купить ей в городе ажурный лифчик с бантиком, какой, наверное, ухитрилась в душе подглядеть у самой Масяпы. А тщедушный «опущенный» пацан на пару лет меня постарше, трагически смотря Масяпе в самые глаза и прижимая руки с обкусанными ногтями к низу живота, елейным голоском молил на выдуманный день рождения подарить ношеные её трусы «на подрочить», иначе, угрожал, не ровен час, руки на себя наложит…
Хоть сам я детдомовец отчасти и сочувствую инкубаторской братве, но решительно её не уважаю. Жалею их, как изначально безвинных общества изгоев, но, повторю, не уважаю: паразитирующий на трудящихся безответственный преплебс! Государство не справилось с воспитательной задачей!
Однажды вечером я на проводы Масяпы со двора немного опоздал. Выбежал, ринулся к воротам — моей подопечной нет, ушла домой. Сел у чугунной изгороди, с расстройства себя кляня. И сразу услышал какую-то невдалеке возню. Встрепенулось сердце, кинулся на звук. Отрылась предо мной картина. Масяпа отбивалась руками и ногами, без слёз, не кричала, говорила только: «Не надо», «Ну не надо»… Она лежала на спине, косынка сбилась, заколки, видно, разлетелись, и пшеничная коса дёргалась на сумрачной траве. Передо мной маячила спина Ушана. На мгновенье, помню, пожалел, что без заточки: сейчас бы прыгнуть и воткнуть меж рёбер, и не один раз, а дабы в пример другим фашистам стал калекой.
— Держите ноги! — приказал Ушан. — Царапается, сука!
— У меня жених есть… Мы обручены… Тренер по боксу… Приедет с командой, накажет…
— Заткнись!
— Режь косу!
— Что-то, б-дь, не видно твоего квадратного защитничка…
— Я здесь!
Запрыгнул сзади на блондина, зубами стиснул ухо и стал рвать. Ушан истошно закричал и отвалился от повергнутой Масяпы. Наверное, его крик фашистов и вспугнул. Тут меня стукнули чем-то по затылку…
Масяпа в чувство привела.
— У тебя, Онфимчик, затылок и губы в крови…
Вынула из сумочки платок, плеснула на него духи и протирает мой квадрат. Я, лёжа спиною на траве, смотрел на Масяпу и не узнавал. Она растрёпанная вся, с разводами туши, без косы, самое главное — доброта выражения с любимого лица пропала. Трогала свой затылок, сокрушённо качала головой: косы нет, отрезали фашисты.
Хотел я Масяпе бодрящее сказать, но сначала что-то выплюнулось красное в траву.
— Ты откусил ему пол уха. Наверное, испугались крови — убежали… Стукнули тебя палкой. Собирались к ней привязать раздвинутые ноги…
— Ничего, — пощупав ноющие ребра головы, говорю, — только содрали кожу. — И дабы Масяпу успокоить: — Я вешал на дерево скворечник, а один фашист подошёл и столкнул лестницу. Я упал, стукнулся головой о землю — и ничего!
— Пойдём, Онфимчик, проводишь меня домой. Всё равно тебе нельзя сейчас в корпус: могут за ухо отомстить.
Я, гордый, положил откусанное ухо в карман — трофей! Воины-индейцы, я читал, тоже таскали с собой скальпы. Через физическую боль я ликовал, чувствовал себя настоящим суворовцем, офицером, кавалером, спасителем от насилия лучшей части трудового народа, возлюбленной мамочки своей. Я в одиночку победил фашистов, целую их свору! Они, конечно, отомстят, но страх перед «ответкой» ещё не подступил. Я шёл по улице бок о бок с потухшей Масяпой, она держала меня за руку, часто оборачивалась ко мне и говорила, смутно помню, про «мой герой», «придётся уезжать», «педагога из меня не выйдет»…
Дома она обработала рану на моём квадрате, я терпел боль и млел от прикосновений её рук. Потом позвонила в Непроймёнск. Мне сказала: часа через три приедут её жених с друзьями, а ты — скоро отбой! — должен быть на месте.
Я вернулся в интернат. По дороге думал о мести, клял себя, что не доглядел за лучшей частью русского народа. Теперь я понимаю: Крошка Цыц — грубая бабища, но опыт работы с подростками столь велик, что она углядела во мне верного служаку и приставила именно меня к Масяпе — для неуправляемого контингента лёгкой жертве. Первая моя служба для народа совсем не удалась. Но голова — на упреждение ответного удара от фашистов — хорошо варила.
После обхода, миновав фашистов, кои в коридоре шли по мою душу, я выбрался из палаты и проник в Ленинскую комнату — Красный уголок. Здесь я временно изъял альбом с фотографиями выпускников-фашистов. Вылез через окно в туалете и с альбомом явился к подъезду дома-хрущёвки, в коем Масяпа сняла квартиру и жила. Как раз к подъезду подкатил размалёванный автобус. Наверное, то был автобус какой-то спортивной команды или с факультета физкультуры Непроймёнской педухи, где преподавал жених Масяпы, сам боксёр и мастер спорта. Выпрыгнули человек десять-двенадцать крепких парней и дядек. Я вручил им фотографию, пометив в ней фашистов, каких распознать среди напавших смог. Ещё отдал им откусанный кусок уха Блондина и посоветовал завтра утром утроить засаду у хирургического отделения городской больницы, куда обязательно явится блондин, ибо в медсанчасти школы-интерната своего хирурга нет. Один тогда сказал:
— А ты шустрый малый! В контрразведчики сгодишься, как мой брательник. Вижу, спортом занимаешься. С турника на голову упал?..
Ночью, не найдя меня в палате, фашисты, светя фонарями, принялись обыскивать территорию школы. Увидев подходящих к воротам группу мужиков, всё поняли и разбежались. Мстители сначала прошерстили спальный корпус и, не обнаружив фашистов, начали шерстить все корпуса подряд, взломав, кое-где двери, а потом я сводил их в котельную, на кладбище и на пустырь.
Дежурный воспитатель, не мог не обнаружить моё отсутствие и передвижение фашистов, и вызвал Крошку Цыц. Та, не зря в милиции служила, прибыв в школу, сразу просекла: дюжина молодых крепких парней и мужчин просто так ночью по территории не шарят.
Крошка Цыц, дабы потерпевшая Масяпа не завела уголовное дело и тем не угробила не только годовой отчёт, но и её карьеру, единственного свидетеля преступления — меня — сначала пыталась запереть в кладовке, но я вырвался и, разузнав у изнасилованных Ушаном девчонок его конспиративной квартиры адрес, убежал к мстителям, отвёл их туда. Взломав замок, обнаружили квартиру пустой. Наверное, оценив угрозу, фашисты либо, пробравшись по коллектору, скрылись на химзаводе, либо переправились через реку и спрятались в землянках бомжей в лесу. Отрезанную пшеничную косу тоже не нашли.
Сработала только моя засада у городской больницы — безухого, перебинтованного Ушана взяли на подходе.
Масяпа в школе не оформлена, её и увольнять не надо. Крошка Цыц только написала в распределительном листе, что Сломиголовская школа-интернат ошибочно прислала в институт заявку на распределение выпускницы, и у Масяпы диплом стал «свободным» — иди работать куда душе угодно.
Крошка Цыц, уже облачённая в форму майора милиции, нацепив медали, всё же захватила меня у городской больнице, когда я зазевался, глядя, как мстители дубасят с приговорами Ушана почём зря. Его крутили на признанку, но тот понимал: признается — тюрьма, он уже совершеннолетний. Мне грозил разбитым в кашу ртом: «Тебе, квадратная голова, конец!» Его от инвалидства спасла бдительная Крошка Цыц. Она опять не стала вызывать наряд, а, уговорами избиение остановив, смогла договорилась, дабы насильника больше не калечили, и обещала сегодня же всех фашистов выселить из интерната и выписать им направление на учёбу не в жданный Непроймёнский политех, а в далёкую-далёкую «каблуху» — на сантехников учить. Крошка Цыц заявила: педагогический эксперимент с великовозрастными фашистами явно провалился. Обещала немедленно, к обеду, выгнать всех фашистов из комсомола — организация не гитлерюгенд. Нам такие инженеры не нужны! Пусть в «каблухах» учатся зарабатывать на хлеб, точить гайки, а кто так жаждет чужой крови и силёнок хватит, пойдут рубщиками мяса на городские рынки.
Ушана отправили к хирургу — полуха, если выйдет, пришивать. К деянию безухого Крошка Цыц отнеслась принципиально:
— Отдам его в сантехники: пусть стиляга понюхает говна! Он давно воду мутит в здоровом коллективе школы! Терпение педагогического коллектива лопнула: говно к говну!
Потом Крошка Цыц отвела меня в милиции городской отдел. Дяденька-милиционер, показания с меня пока брал, то краснел бураком, то бледнел поганкой, откидывался на стуле, сокрушённо вздыхал и, наконец, достав из сейфа бутылку тёплой водки, выпил с Крошкой Цыц два раза по сто граммов под её закуску и на посошок по сотке. И тогда, прихватив меня покрепче, дабы опять не убежал, Крошка Цыц провела суворовца через кабинеты эскулапов и я вышел из больницы с медицинской по всей форме справкой для поступления в училище, к обеду написала на меня характеристику для отдела кадров, заполнила анкету, а после обеда физрук повёз меня на жэдэвокзал. Я даже не успел с Масяпой и Чумавыми попрощаться. Из училища я несколько раз писал Чуме, из ответов уяснил одно: Масяпа в тот же что и я день покинула интернат, а, спустя время, у Крошки Цыц на голове явился иссиня-чёрный крашеный шиньон: знать, выбила-таки отрезанную косу из фашистов…
Больше я о своей первой любви ничего не знаю. Вряд ли из моей Масяпы вышел педагог — уж слишком бесхитростная и добрая она. А сострадательность в воспитателе трудновоспитуемые детки принимают за слабость и, самоутверждаясь, ездят-катаются на доброте.
С пшеничной косы Масяпы и стал я западать на длинноволосых девушек и женщин. А как встретил — помните, избирательный читатель мой? — Марусю с рыжею косой, влюбился в неё по неоткусанные уши, хотя в два раза её старше и седой…